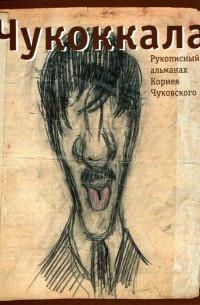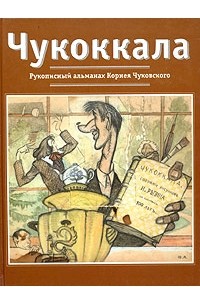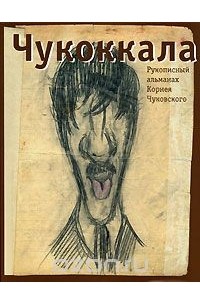Серебряный век

- 364 книги
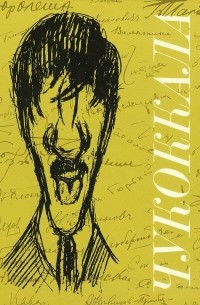
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Как же я люблю эту книгу! Как же я люблю держать ее в руках. Хотя нет, тут я немного преувеличиваю, удержать ее в руках трудно, она очень тяжелая.
Самое любимое - расположиться с ней за большим столом и медленно перелистывать, еще и еще раз читая записи, стихи, эпиграммы, рассматривая автографы, рисунки и карикатуры, читая пояснения самого Чуковского.
"Чукоккала" - это нечто особенное, нечто редкое и уникальное, то, что, скорее всего, правильно было бы назвать памятником.
Происхождение названия объяснил сам Чуковский в его вступительной статье к первому печатному изданию альманаха в 1966 году:
Слово это составлено из начального слога моей фамилии - ЧУК и последних слогов финского слова КУОККАЛА - так назывался поселок, в котором я тогда жил.
Слово "Чукоккала" придумано Репиным. Художник деятельно участвовал в моем альманахе и под первым же своим рисунком (от 20 июля 1914 года) сделал подпись: "И.Репин. Чукоккала".
Итак, на страницах юмористического альманаха Чуковского на протяжении многих десятков лет оставляли автографы Блок, Ахматова, Мандельштам, Гумилёв, Гиппиус, Бунин, Шаляпин, Римский-Корсаков, Репин, Конан-Дойль, Уайльд, Фрост и многие многие другие. Но не только автографами заполнен этот уникальный альманах, тут и короткие стихотворения, дневниковые записи, рисунки, шаржи, пародии и даже мини-пьесы!
Какая гениальная идея! Как нам повезло, что мы можем сегодня это видеть.
И сколько чудесных портретов, очень часто карикатурных, но не только.
Изо всех моих портретов, находящихся в "Чукоккале", я считаю наиболее близким к оригиналу этот отличный портрет Ю.П.Анненкова.
Печатное издание альманаха прекрасно сделано - на каждой странице фотокопии одной или нескольких страниц оригинального рукописного альманаха, пояснения Чуковского к этим страницам, сделанные им при подготовке первого издания, и примечания Елены Чуковской, внучки писателя, которой он передал права на Чукоккалу в 1965 году. Кроме того, все тексты с оригинальных страниц - стихи, записи и т.д., приведены и в печатном варианте рядом с фотографией страницы.
И есть оказывается даже такая звезда Чукоккала.
Летом 1999 года, когда рукопись этой книги была уже в производстве, пришло известие, что в честь Чукоккалы названа малая планета... Это редкий, если не единственный случай, когда планета названа в честь книги.

Величайший
Великий
Крупный
Любимый народом
Читаемый
Хорошо чувствующий современность
Плодовитый
Искренний
Самобытный
Имеющий своего читателя
Печально известный
Незаслуженно забытый
Заслуженно забытый
Слабо знающий советскую действительность
Взявший нужную тему, но...
Призывающий читателя к борьбе за (против)
Хорошо знающий быт геологов (водников)...
Ныне разоблачённый
...
Эпитетов к деятелям искусства можно подобрать, кажется, бесконечное множество. Такие уж они многогранные товарищи. В эпоху отсутствия интернета, селфи-палок и настольных игр кроме карточных, люди часто устраивали посиделки, спонтанные и еженедельные. Писали письма и открытки от руки по разным поводам и имели обширнейший круг знакомств (на случай, если понадобится что-то достать, конечно же) Домашний альманах Чуковского начинался как собрание открыток, рисунков и просто забавных записей его друзей. Можно сказать, что ему повезло в 1908 году в Финляндии снимать дом у Павла Анненкова, где Корней Иванович знакомится с его сыном Юрием, начинающим художником в ту пору. Когда у тебя в друзьях и соседях по даче один маститый художник (Илья Репин) и один подающий надежды (Юрий Анненков), твой альманах обречён на успех. Многие портреты оттуда разошлись по музеям: Ахматовой, Андреева, Эфроса и, конечно же, Маяковского. Последний часто гостил у Чуковского, с удовольствием заполняя страницы Чукоккалы своими стихами и рисунками.
По альманаху можно гадать, как по руке: вот жирные, с нажимом линии Маяковского, тут - мелкие, неуверенные и еле-еле читаемые Горького, здесь - вертикальные гигантские буквы Андрея Белого...Характеры личностей, оставивших эти автографы в разные годы, можно легко определять, не будучи даже обученным этому искусству. Кто-то лепит буквочки друг на друга, кто-то рисует в центре, обводя в круг, а другие не соединяют линии до конца - благодаря Чуковскому и его хобби у потомков даже сохранилось несколько листков текста Оскара Уальда!
По большей части политкорректный Чуковский иногда допускал вольности и не сдерживал раздражения. Так, стихи Игоря Северянина он отмечает сочетанием сильной лиричности и дешёвого снобизма, характеризуя его стиль, как салонно-кокотистый. А цикл историко-литературных новелл Сергеева-Ценского называет скороспелыми и фельетонно поверхностными. Зато стихи Пастернака прелестные и свежие, например. Странно, что Лидии Чарской не предлагал написать что-нибудь в альманах. Интересно, после слов Чуковского: "Чарская отравляла детей сифилисом милитаристических и казарменно-патриотических чувств", - могла ли она вообще находиться в одном с ним помещении? В период войны и травли записей мало по понятным причинам, зато ближе к концу все хотят уважить мэтра и оставить след в истории, это довольно забавно.
Заканчивать хочу словами Хармса: "Эта Чукоккала меня укокала!"
...
Смело раскрывающий
Так и не понявший
Много видевший
Периферийный
Признанный
Надолго замолчавший
Положительно упомянутый
Бездарный
Гениальный
Один из старейших
Замечательный
Тонкий
Большой


На рисунке он изобразил меня за чтением Пушкина и рядом со мной писателя Юрия Волина.
Рисунок исполнен папиросным окурком. Репин макал этот окурок в чернильницу и пользовался им, словно кистью. Потом кое-где (очень скупо) присоединил к этим пятнам штрихи, сделанные тонким пером. Пером нарисована на этом рисунке сидящая в отдалении женщина, жена писателя Иерусалимского.
Замечательно, что, указывая местность, где сделан рисунок, Репин назвал Чукоккалу, потому что, по его убеждению, Чукоккалой надлежало называть не только мою книгу, но и дом, где я жил.
Когда И. Е. Репин делал этот набросок, художник Юрий Анненков, примостившись сзади, нарисовал его со спины.

После первой же книги стихов Мандельштам стал знаменитостью в литературных кругах Петербурга. Мы полюбили твердить наизусть его классически четкие строки «Над желтизной правительственных зданий...», «Я не слы хал рассказов Оссиана...», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Летают Валькирии, поют смычки...».
Наряду со стихами торжественными в книге было немало стихов, посвященных тривиальной повседневности, обра зы которой были близки и милы ему. И когда он писал, например:
В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами,
чувствовалось, что ему весело видеть и этот снег, и эти лопаты, и эти «спокойные пригороды».
С такой же приветливостью писал он о долгожданном мороженщике, прибывшем в пригород летней порой:
Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка —
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.
И боги не ведают — что он возьмет...
Видеть «предметы предметного мира», птиц, животных, горы, моря и дома, было для него истинным счастьем:
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!..
Если эти «я люблю», «я доволен» не всегда были сказаны вслух, все же они чувствовались в той ласковой и веселой манере, с которой поэт рисовал свои образы. Светлое приятие мира — лирический подтекст его ранних стихов.
Да, жизнь часто бывает трагична, тяжела и бессмыслен на, но все же какое это счастье — быть живым: Пусть я живу лишь мгновение, но в этом мгновении — вечность:
За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?..
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...
Пускай мгновения стекает муть,—
Узора милого не зачеркнуть.
Это одно из самых оптимистических стихотворений русской поэзии. Оптимизм выстраданный, прошедший сквозь отчаяние, слезы и смерть. Но да будут благословен ны все мгновенные приманки и очарования жизни:
Поедем в Царское Село...
Над Курою есть духаны,
Где вино и милый плов...
Но я люблю на дюнах казино
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;
***
Люблю следить за чайкою крылатой!
Но больше всех чаек и ласточек, больше духанов и царскосельских аллей любил он — до умиления, до страсти — музыкальную стихию русской речи, и эта стихия влекла его к себе как магнитом. Какая-то новая — горьковатая — сладость зазвучала в его лучших стихах, где было с особой нежностью облелеяно каждое слово. Именно облелеяно какой-то благоговейной нежностью.
Этим благоговением заражал он и нас — и я помню, какой драгоценностью ощущали мы каждое слово в его знаменитых стихах: «Чуть мерцает призрачная сцена...», «Я изучил науку расставанья...«, «Золотистого меда струя...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Где милая Троя, где царский, где девичий дом?..».
Чувствовалось, что мастер был счастлив работать над таким податливым и гибким материалом, как русский язык.
«Радость тихая дышать и жить» долго не покидала его. Она виделась мне и в его искрящихся, веселых глазах и в стремительной, почти мальчишеской походке.
Чаще всего я встречал его в то время у Анны Ахматовой. Уже по тому, как сильно он дергал у дверей колокольчик, она узнавала: Осип. Сразу же в маленькой комнатке начиналось целое пиршество смеха. Было похоже, что он пришел сюда специально затем, чтобы нахохотаться на весь месяц вперед. Оба они очень затейливо и тонко злословили, сочиняли едкие стихи о друзьях и знакомых. Если здесь же присутствовал их общий приятель поэт Михаил Лозинский (впоследствии переводчик Шекспира и Данте), смех допоздна не умолкал ни на миг. Шутки были сплошь литературные — шаржи, псевдоцитаты, пародии, и, хотя все трое были наделены изощренным чувством сарказма и юмора, первая скрипка в этом своеобразном оркестре всегда принадлежала Мандельштаму.
— Мне ни с кем так хорошо не смеялось, как с ним! — вспоминала Анна Андреевна.
Смешные экспромты Осип Мандельштам чаще всего сочинял в античном, ложноклассическом стиле, придавая им форму пентаметра — того самого, которым Овидий писал свои «Tristia». Из них мне запомнилось такое двустишие:
Делия, где ты была? — Я лежала в объятьях Морфея. Женщина, ты солгала, — в них я покоился сам.
Тот же древний классический стиль соблюден Мандель штамом в стихах, посвященных ассирологу Владимиру Казимировичу Шилейке. Шилейко был человек феноменальной начитанности, полиглот, первоклассный ученый, но жил очень бедно и неприкаянно, особенно тогда, когда стал мужем Анны Ахматовой. И вдруг ему посчастливилось на короткое время поселиться в комфортабельной квартире (может быть, я ошибаюсь, но мне смутно помнится, что то была квартира его близких друзей, которые уехали куда-то на юг). Видеть этого неприхотливого бедняка в обстановке, столь несоответствующей его обиходу, было очень странно и дико. Отсюда прелестные стихи Мандельштама:
Путник, откуда идешь? — Был я в гостях у Шилейки.
Дивно живет человек; смотришь — не веришь очам.
В бархатном кресле сидит, за обедом кушает гуся.
Кнопки коснется рукой — сам зажигается свет.
Если такие живут на Четвертой Рождественской люди.
Милый прохожий, скажи, кто же живет на Шестой?
Думаю, сам Козьма Прутков был бы не прочь подписаться под этим шедевром, написанным в духе тех эпиграмм, в которых ядовитый Козьма так беспощадно высмеивал поэта-эллиниста Николая Щербину.
Очень хороша в этих стихах о Шилейке наигранная наивность их автора, притворившегося, будто он твердо уверен, что на нумерованных Рождественских (ныне Советских) улицах жители распределены в самой строгой зависимости от той цифры, которой обозначена каждая: на Шестой Рождественской они живут роскошнее, чем на Четвертой, а на Десятой — роскошнее, чем на Шестой. И такое дикарское изумление перед электрической лампочкой, которой автор якобы никогда не видал до тех пор.
Еще запомнилась мне одна очень несправедливая эпиграмма, где Мандельштам уличает своего редкостно радушного и щедрого друга Михаила Лозинского — в скупости:
Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая:
«Скифам любезно вино, мне же любезны друзья».
Словом, в те давние годы было никак невозможно назвать Мандельштама сумрачным или печальным поэтом. «Радость тихая дышать и жить» чувствовалась во всем его творчестве. У него был особый дар ласково, благодарно, улыбчиво живописать окружающий мир. Именно так, с сердечной и нежной любовью, приветст вовал он Невский проспект в одном стихотворении, написан ном им после «Tristia».
Шоколадные, кирпичные, невысокие дома.
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима.
Каждому образу в этих стихах он говорит свое «здравствуй». Уютными, добрыми, милыми встают перед ним эти дома и смотрят на него с той же доверчивой радостью, с какой он смотрит на них.
Незадолго до 1917 года в витринах продовольственных лавок на Невском завертелись в качестве приманок большие колеса кофейных электрических мельниц. Даже эти мельницы воспринимал Мандельштам как источник уюта и радости.
И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой,
Электрическою мельницей смолот мокко золотой.
Теперь уже мало кто помнит, что осенью в Питер с далекого севера приезжала в те годы флотилия лодок с глиняными горшками и мисками и, причалив к берегу Невы, предлагала их столичным покупателям.
А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар.
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар.
Товар — «добросовестный», зима — «несуровая», мокко — «золотой», — нет, этот человек и в самом деле смотрел на жизнь светло и приветливо.
И светлая кульминация этих счастливых стихов:
Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.
Кто из нас, поселившись в его любимом Крыму и глядя на сбегающие с холмов виноградники, не повторял вслед за ним его удивительно точных — и опять-таки светлых стихов:
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки — идешь, никого не заметишь —
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни:
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь...
Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке,
В каменистой Тавриде наука Эллады —
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена —
Не Елена — другая — как долго она вышивала?
Поэт нигде не говорит, как счастлив он видеть сторожей и собак и как милы ему «золотых десятин благородные ржавые грядки», но каждая строка этих классически спокойных анапестов насыщена светлым счастьем художнического восхищения.














Другие издания