Писатели и поэты, ушедшие из жизни в крайней бедности

- 91 книга
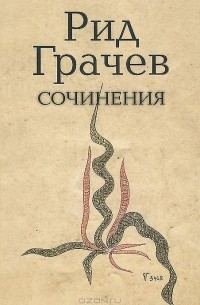
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
О Риде Грачёве внимательный читатель может впервые узнать у Довлатова: тот бегал по знакомым и собирал деньги в помощь Риду, который угодил в больницу Скворцова-Степанова. В аннотации к тому сочинений Грачёва сказано: «Рид Грачёв стоит у истоков новой ленинградской литературы конца 1950-х – начала 1960-х годов. Его влияние на молодое поколение той эпохи было едва ли не определяющим, хотя внешне литературных успехов он добился небольших: выпустил всего один маленький сборник прозы “Где твой дом” (1967), и тот нещадно урезанный в процессе публикации». В 1994 году благодаря венской переводчице Элизабет Маркштейн, собравшей деньги на издание, в России вышла вторая книга Рида “Ничей брат”. В 2013 журнал “Звезда” выпустил два почти идентичных сборника (один со стихотворениями), в которые входит всё наследие Грачёва: четыреста страниц рассказов и двести с небольшим страниц эссе и публицистики. Это всё.
Чем может быть интересен Грачёв современному читателю? Он, как и многие “нововолновые” шестидесятнические авторы, писал настолько свежо и вдохновенно, оторвавшись от унылого котла сов.литературы, будто опережая время. Кажется, что создано это уже на изломе восьмидесятых, но нет – 1958- середина 1960-х. В Грачёве непонятно как уживаются и Платонов с Ерофеевым, и ранний Довлатов, и то ощущение странной сумасшедшей субстанции, накрывавшей весь СССР, которое позже в начале 1980-х один молодой автор использует в своём дебютном романе “Норма”. Сам Рид, как явствует из его статей, был наиболее всего склонен к гуманизму Сент-Экзюпери. А мне Рид кажется главным советским Сэлинджером: и по жизненному пути, и по объёму изданного, и по удивительной схожести мотивов. В повести “Адамчик” на матрасно-пружинном заводе работает вылитый Х.Колфилд два-три года спустя “Ловца”. Остальные истории рождают практически то же самое ненадёжное ощущение кристальной ясности рассудка при минимуме художественных усилий, как и в «Девяти рассказах» Сэла.
Последняя вещь Грачёва “Некоторое время” писалась с конца 1960-х до середины 1990-х, в ней на тридцати страницах проходит несколько дней из жизни героя, но автор не стесняется и скрещивает времена: в начале у него в газете бунтуют парижские студенты 1968-го, в конце на полке стоит том Сент-Экзюпери 1977-го года издания.
Главное отличие Грачёва от Сэлинджера всё-таки в дикой выворачивающей тревоге, в беспокойстве, что старается прорвать всю глухую вату дней, потому что без неё, без тревоги, человек как-то перестаёт чувствовать себя полноценно живущим. Нужно, чтобы беспокойство это не накапливалось, не бродило водоворотами там, за занавесью реальности, почти как у Стругацких, а просачивалось потихоньку. Чтобы в один момент вместе с последней каплей не переполнить чашу и не привести хрупкое равновесие человека к необратимой катастрофе безумия.
“Доверяй только своей тревоге. Это последний сигнал, получаемый тобой живым. Не заглушай её, но и не усиливай. Иначе она станет самостоятельной. Запоминай только бестревожное. Избегай соблазна отдохнуть от тревоги. Без причины для неё она исчезнет сама. Не лечись. Это пустая трата времени. Избегай провокаций темперамента – это усиливает разгон и мешает торможению.”
“Но всю дорогу от Измайловского проспекта до Мойки ощущает он смутное беспокойство: ему кажется, что сбилась портянка в правом сапоге, сбилась и давит на пальцы. Он останавливается, шевелит ногой в сапоге. Нет, всё в порядке, и идёт дальше, домой.”
Доп.материалы: страничка с историей Довлатова и стихами Рида Грачёва

Я все не спал и плакал допоздна
за неименьем самого простого:
не создает иллюзии простора
больничных стен слепая белизна.
Я все глаза об эти стены стер,
но не увидел солнца. Вот тогда-то
мой доктор в белом облаке халата
в палату вплыл со свитой медсестер.
Они впорхнули, излучая свет,
и сердце вдруг отозвалось тревожно...
«Вы — ангелы?» — спросил я осторожно.
Но промолчали ангелы в ответ.

Мне снился
Моцарт и Сальери
в расцвете сил.
Все было, как на самом деле,
творил он и боготворил,
себя
с Юпитером равняя,
и строил музыку,
как бог,
а после,
с алгеброй сверяясь,
не мог понять себя,
не мог.
И плакал от бессильной
злобы,
от нежности к своей
судьбе,
от бога в собственной особе
и черной зависти
к себе.
Не доверяя
общей мере,
себе в бокал
насыпал яд
и выпил -
Моцарт и Сальери
бокал
и умертвил себя.
Мне снился
Моцарт и Сальери
в расцвете
всевозможных сил.
Он был один.
А кто не верит,
тот не испытывал,
не жил.

Среди растений,
стриженных в кружок,
среди прямых
и на ногах стоящих -
наклонное,
прозрачное,
дружок,
лишь ты еще
подобна настоящим.
Растения
предохраняют тут
от бесконечных повторений,
от преждевременных потуг,
от преждевременных рождений.
Я слышу крик
твоих наклонных рук,
я жду твоих
волшебных превращений...
Я падаю.
Я твой
наклонный друг.
Наклонный друг
наклонных ощущений.