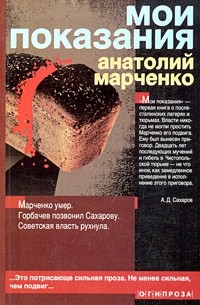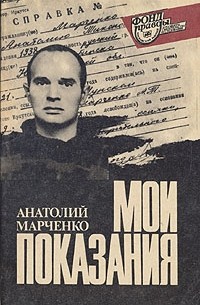Концлагеря

- 217 книг
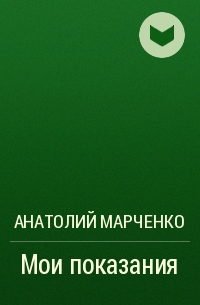
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Страшная книга о страшной жизни, о правде, которую так тщательно скрывали... Когда я читала, то просто не могла поверить во все те ужасы, что описывает Марченко, в то, что все это действительно было, а может быть, до сих пор есть в лагерях и тюрьмах! Может, не в такой форме, но все же.
Я совершенно по-другому стала относиться в политзаключенным, да и вообще к заключенным - как много было достойных людей, осужденных ни за что, по сфабрикованным делам! А ведь кто-то до сих пор считает, что в сталинское и хрущевское время жилось лучше, чем сейчас... Вот это действительно страшно.
Очень сильная книга. Как и сам человек. Я восхищаюсь Анатолием Марченко. Он для меня - подлинный герой.

Как обидно видеть малое количество отзывов и общее число прочитавших данную книгу.Зато, советская агитка, типа "Волоколамское шоссе"Бека, имеет значительно больший успех.Но я надеюсь, скажу даже больше, я уверен, наступит тот день, когда мы сможем скинуть с себя оковы вранья, лжи и отвратительной советской пропаганды.Данная книга оглушает.Читать ее трудно.Трудно от такой правды, которая будет похуже фантастической лжи.Как много человек может вытерпеть!Как много человек может перенести!Самое удивительное в том, что как после этого всего можно вообще остаться человеком?Человеком совести, человеком борьбы за правду и добро!Я не буду описывать то, что происходит в книге, скажу лишь, что Анатолий Тихонович-это стержень, который так и не получилось сломить системе и ее приспешникам почти за 30 лет!!!

Где бы вы могли слышать эту, вынесенную в заголовок, фразу? Скорее всего, где-нибудь на Нюрнбергском процессе, в качестве оправданий бесчинств, творившихся в том же Дахау. Но знаете где еще часто звучали эти слова?
В советских тюрьмах.
Разница в том, что суд истории во втором случае так и не случился.
И если гитлеровские концлагеря получили однозначную крайне негативную оценку, то со сталинскими (а за ними хрущевскими, брежневскими и т.д.) до сих пор как раз "не все так однозначно".
"Мои Показания" Марченко дают очень четкую и однозначную оценку и советским лагерям, и советскому правосудию, да что уж там - всему советскому строю.
Для нас Советский Союз все чаще это гомосексуальная романтика пионерских лагерей (при всем моем уважении к подобного рода романтике), а не рабский труд на сибирском лесоповале, Советский Союз - это вкусное мороженое за 20 копеек, а не трехсот граммовая урезанная пайка черствого арестантского хлеба, это заводы-гиганты, а не миллионы судеб, брошенных в топку этих же заводов.
А по-другому было нельзя! - скажут сейчас.
Да по-другому вы и не пробовали!
Назначаю "Мои Показания" третьей большой книгой о советской тюрьме! Наряду с ГУЛАГом Солженицына (со всеми оговорками, конечно), с Колымскими рассказами Шаламова (без всяких оговорок), должна стоять автобиографическая повесть Марченко о мордовских лагерях и Владимирской тюрьме, в которых и сейчас, поверьте, несладко.
Эти книги читать неприятно, порой жутко и даже противно, но нужно! нужно, чтобы мы смогли ощутить хотя бы самую малость тех лишений, того унижения, того отчаяния и бессилия, через которые прошли миллионы наших соотечественников, и которые за многие десятки лет стали частью нашего не только культурного ДНК.
Книгу нужно читать тем кто верит в былую великую империю, а не "тюрьму народов", ибо тут есть и про поляков, и про прибалтов, украинцев, Кавказ и другие так и непокоренные нации.
Книгу нужно читать тем кто говорит, что только Сталин был людоед, ибо людоедской была сама система.
Книгу нужно читать тем, кто хочет повторить. Потому что не надо это повторять.
Не стоит думать, что эти времена безвозвратно ушли. В тюрьмах снова сидят за свои убеждения, пытки в них как будто бы и не прекращались, а стали пусть не такими массовыми, зато более жестокими, и администрация лагеря все так же отправляет заключенного (за расстегнутую верхнюю пуговицу) на холодный кафель ШИЗО, не потому что они сами звери, нет, просто у них инструкция такая.

Таких изменников, как я сам, — полны лагеря. Но одного я не понимаю — как вы, коммунисты, можете мне говорить, что меня посадят за мои убеждения? Ведь в других странах легально существуют целые оппозиционные партии, в том числе и коммунистические, которые ставят своей целью изменить строй. Их, коммунистов, когда они возвращаются к себе из Москвы, с очередного совещания, не судят за измену родине. А меня, рабочего, не члена никаких партий, вы шесть лет держите за проволокой и снова грозите тем же.
— Что вы нам про другие страны говорите! У них свои законы, у нас свои. Все вы на Америку тычете — тоже нашли свободную страну! Была бы там свобода — зачем бы негры бунтовали? А рабочие забастовки?
— А Ленин говорил, что забастовки и борьба негров в США — это как раз и есть признак свободы и демократии.
Когда я это сказал, мои воспитатели так и подпрыгнули. Они накинулись на меня все трое:
— Как вы смеете клеветать на Ленина!
— Где вы слышали такую ложь?!
— Повторите, повторите, что вы сказали!
Я помнил эту цитату дословно и повторил ее, даже назвав номер тома. Начальник ПВЧ направился к двери:
— Какой том, вы говорите? Сейчас, минуточку.
Он принес из своего кабинета книгу в темно-синем переплете — последнее издание, я видел в его шкафу все тома, корешок к корешку, плотно уставленные за стеклянной дверцей. Он дал мне книгу.
— Ну, покажи, где здесь написано то, что ты говоришь.
Пока я листал слежавшиеся страницы, они строем ждали, как собаки на охоте: сейчас меня уличат. Они были уверены, что у Ленина нет таких слов, он не мог такое говорить. Тут еще много значило и то, что в их головах не укладывается, чтобы парень без образования вроде меня сам читал Ленина или что-нибудь еще. Они сами-то его читали «от сих до сих». С зэком-историком они стараются не спорить. А когда такой, как я, ссылается на статью из журнала, на документ, словом, на печатное слово, — они убеждены, что ты говоришь с чужого голоса, что кто-то из зэков ведет в лагере враждебную пропаганду, и тут же кидаются: где слышал?! Кто тебе такое сказал? Вот сейчас окажется, что я наврал, и на меня обрушатся эти вопросы.
Я подал им раскрытую книгу. Начальник ПВЧ вслух прочел там, где я показал. Усов растерянно уставился на него. Кагэбэшник подошел к начальнику ПВЧ:
— Ну-ка, дай мне.
Они вместе стали листать страницы, наверное, надеясь найти там какое-нибудь подходящее объяснение или опровержение прочитанного. Но ничего не нашли, и капитан КГБ сказал мне, ничуть не смущаясь:
— Вы, Марченко, наверное, неправильно поняли Ленина. Вы с вашими взглядами понимаете Ленина по-своему, а это не годится. Долго вам на воле не прожить!

Месяца за два или три до освобождения меня вызвали в кабинет КГБ на беседу. Беседовали со мной трое: кагэбист, начальник ПВЧ и отрядный Усов. Я хорошо запомнил этот разговор: в последний раз они пытались переубедить меня, перевоспитать «по-хорошему».— Марченко, вы скоро освободитесь. Вы понимаете, что, выйдя на волю, вы должны вести себя и думать, как все? Воля — это вам не лагерь, где у каждого свое мнение.

Глядя на Ивана, я думал: вот лежит человек, который из-за тебя голодал больше, чем обычно; из-за тебя хотел умереть. Если он донимал тебя своей жадностью, разговором о жратве, если дошел до подлости, — так разве он виноват в этом? А ты-то сам лучше, что ли? Кинулся на такого же беззащитного и обездоленного, как ты сам! Да если уж ты такой слабый, что не можешь совладать с собой, со своими нервами, — отчего ж ты тогда не съездил по физиономии надзирателю, который издевается над тобой каждый день? Только потому, что за несчастного зэка тебе грозит штрафной паек, самое большое — карцер, а за надзирателя — могут и расстрелять по Указу. Значит, ты уже отравлен страхом, страх руководит твоими действиями...
Я думал о себе самом. Во что меня превратила тюрьма за несколько месяцев! Когда я впервые очутился в камере, мне казалось, что здесь и дня нельзя прожить. Я даже не мог сходить по-легкому в парашу, меня мутило от одной мысли о том, что здесь же придется есть и спать, что здесь едят, и спят, и оправляются другие заключенные... А сегодня я жадно съедаю свою кильку среди крови и блевотины, и мне кажется, что нет ничего вкуснее этой кильки. Человек истекает кровью на моих глазах, а я досуха вылизываю свою миску и думаю только о том, чтобы поскорее опять принесли поесть.Осталось ли во мне, во всех нас здесь еще хоть что-то человеческое?






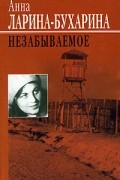





Другие издания