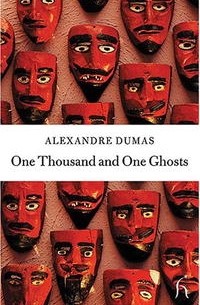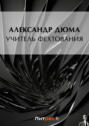
Электронная
51.9 ₽42 ₽
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
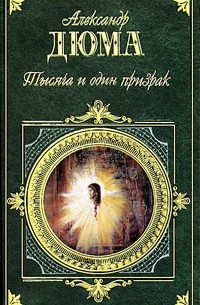
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Знакомство с Дюма
Да, это первая книга Александра Дюма, которую я прочитала. Может быть не лучший выбор, но так получилось.
Автор ведет повествование от первого лица: о том, как он собрался на охоту, но волею судеб оказался свидетелем преступления — мужчина убил жену и пришел с чистосердечным признанием к мэру города. В общем, собрались все — мэр, судья, жандармы, несколько свидетелей и стали разбираться, потому что преступление было не простое, а окутанное мистическим ореолом... А уже потом, разобравшись, начинают рассказывать друг другу страшные и загадочные истории, которые с ними приключились.
Местами жутковато, даже слишком — говорящие отрубленные головы, отрывание бород мёртвым королям и всякое такое. Ну и конечно, вампиры, куда без них.
Тем не менее не впечатлило, то ли слишком наивно, то ли особенности стиля. Читается легко, но следа в душе не оставляет.
Честно говоря, равнодушна к классике, так что когда состоится следующая встреча с писателем, не знаю. Но первый блин комом.

Странное у меня отношение к этому сборнику. С одной стороны, это просто собрание готичнх рассказов, прелестный памятник мистики XIX века. Даже я при всей своей нелюбви к ужастикам могу читать их, наслаждаясь антуражем и стилем. И часть рассказов этого сборника я именно так и читала. Все было бы хорошо, если бы не одна мелочь - рассказы об эпохе ВФР. Я нежно люблю эту эпоху, неплохо ее знаю, во всяком случае, получше Дюма, и мне просто физически противно от того вранья, от той глупой детской поверхностноси, которые царят в его произведениях о революционной эпохе.
Дюма так и остался ребенком, которого влечет все яркое и блестященькое, изящненькое и в рюшечках. Суровая красота второго года республики ему не зубам. То он плачет, что изящный театр, где все было так изысканно и красиво, наводнило какое-то унылое грязное быдло - а мне вспоминаются слова человека гораздо более талантливого, чем Дюма: «Обездоленные - сила земли, они имеют право говорить как хозяева со спесивым правительством». Бездельник ты изнеженный, эта рвань всю твою изящную шушеру много веков кормила, они имели право потребовать своего, а тебе должно быть стыдно за свой снобизм. Но, конечно же, те санкюлоты, что встречают Гофмана на въезде в Париж, - люмпены и бездельники, завсегдатаи секций, одним словом. А ничего, что любезная сердцу Дюма Жиронда специально сокращала время заседания секций, чтобы эти бездельники, рабочий день которых заканчивался в 9 часов вечера, не могли участвовать в секционных заседаниях и только непрерывность этих заседаний позволила санкюлотам в них участвовать? Ну и вообще, это жа такой кошмар - встречать с недоверием и предосторожностями праздного туриста из Пруссии, с которой Франция вообще-то воюет... Действительно звери.
То он рассказывает совершенно идиотскую историю благородного эмигранта, сбежавшего от революции в Англию, которая была главным противником революционной Франции, и люди, пошедшие на прямую измену родине, становятся у него благородными страдальцами. Да-да, конечно, этот эмигрант клялся и божился никогда не воевать против Франции, разумеется, этой клятве нужуно верить, Лафайеты вон всякие, Дюмурье и прочие разные бриссотинцы тоже много в чем клялись. Хоть убей не понимаю, почему я должна сочувствовать его беспричинно арестованной дочке - ну подумаешь, папа в условиях войны сбежал к врагам. И да, разумеется, всех арестованных тут же гильотинировали - откуда только освобожденные из тюрем-то после 9 термидора взялись, ежели всех гильотинировали? По Дюма же весь период террора действовали нормы прериальского закона, который на самом деле действовал только последние полтора месяца. Я уже молчу про процесс над дантонистами, сокращенный Дюма до 1 дня - ну чтоб ужасней было скоропалительное правосудие. Всю Францию гильотинировали, зверюги, - хотя достоверно известно, что более половинаы всех гильотинированных - это участники вооруженных выступлений. Но Дюма просто бодро воспроизводит термидорианские мифы, не задумываясь об их соответствии действительности.
Повторюсь, Дюма - падкий на красивенькое ребенок. Он с детским эгоизмом простит Гофмана, предавшего свою невесту, притом дважды предавшего; будет восхищаться Наполеоном, бодро развязывающим войны (на войне, наверно, не убивают), ведь это же «великий человек», а перед суровой поэзией якобинской диктатуры он проходит слепым и глухим. Для него это год ужаса - а это год героически добытой всей Францией селитры, вот теми самыми оборванными безумно прекрасными санкюлотами добытой, это год создания той самой Великой Армии, которую разлюбезный Напа просто использовал, придя на готовенькое, это годы речей, напсанных и произнесенных действительно талантливыми ораторами, это год тяжелого труда по 17 часов в день, год споров до хрипоты в секциях, год прекрасной и печальной несбывшейся любви в маленьком доме на улице Сент-Оноре... Я понимаю, что Дюма нужен был просто колортный фон для ужастика. Террор действтельно был - чем не фон для ужастика? Но была и добродетель. Во всех своих книгах Дюма делал историю чище, чем она была на самом деле, превращая уголовную хронику в историю благородной мести. В случае с историей революции Дюма не тянет и принижает реальность. Жаль.

Пишу ли роман, сочиняю ли драму, я самым естественным образом повинуюсь требованиям эпохи, в которой развертывается мой сюжет. Различные местности, люди, события просто навязаны мне неумолимой точностью топографии, генеалогии, исторических дат; необходимо, чтобы язык, одежда и даже походка моих персонажей гармонировали с представлениями, бытовавшими в ту эпоху, что я пытаюсь воссоздать. Мое воображение, сопротивляющееся реальности, подобно человеку, посетившему руины замка, вынуждено ступать по каменным обломкам, продвигаться по темным коридорам, сгибаться, пробираясь через потайные ходы, чтобы составить более или менее точный план здания в те времена, когда здесь играла жизнь, когда радость наполняла его смехом и пением, а горе будто призывало откликнуться эхом на рыдания и крики. Во всех этих поисках, во всех этих исследованиях и требованиях мое «я» исчезает; во мне сочетаются Фруассар, Монтреле, Шателен, Коммин, Со-Таванн, Монлюк, Этуаль, Таллеман де Рео и Сен-Симон; индивидуальность уступает место таланту, вдохновение уступает место эрудиции; я перестаю быть актером в большом романе собственной жизни, в большой драме собственных чувств, становлюсь хроникером, летописцем, историком, повествую моим современникам о событиях давно минувших дней и о впечатлениях, произведенных этими событиями на персонажей, действительно существовавших или же сотворенных моей фантазией. Но о впечатлениях, производимых на меня событиями нашей повседневности, этими страшными событиями, колеблющими почву у нас под ногами и омрачающими небо над нашими головами, мне говорить запрещено. Дружеские привязанности Эдуарда III, ненависть Людовика XI, прихоти Карла IX, страсти Генриха IV, слабости Людовика XIII, любовные связи Людовика XIV — об этом я рассказываю все; но о дружеских привязанностях, утешающих мое сердце, о ненависти, ожесточающей мою душу, о прихотях, возникающих в моем воображении, о моих страстях, о моих слабостях, о моих любовных связях — говорить не осмеливаюсь. Я знакомлю моего читателя с героем, жившим тысячу лет тому назад, но сам остаюсь для читателя неизвестным; по своему желанию я заставляю его любить или ненавидеть персонажей, и мне нравится внушать читателю любовь или ненависть к ним, хотя сам я читателю безразличен. Есть в этом что-то грустное, что-то несправедливое, чему я хочу противиться. Я стараюсь быть для читателя чем-то большим, нежели повествователь, о ком каждый составляет представление в зеркале собственной фантазии. Я хотел бы стать существом живым, осязаемым, неотделимым от общей жизни, наконец, чем-то вроде друга, настолько близкого всем, что, когда он приходит куда бы то ни было — в хижину или во дворец, — не требуется его представлять, поскольку все его узнают с первого же взгляда.
Таким образом, мне кажется, я умер бы не окончательно; да, могила приняла бы меня, умершего, но мои книги помогли бы мне остаться в живых. Через сто лет, через двести, через тысячу лет, когда все изменится — и нравы, и одежда, и языки, и человеческие расы, — я вместе с одним из моих томов, выдержавших испытание временем, воскрес бы сам, подобно человеку, который попал в кораблекрушение, но которого находят плавающим на доске посреди океана, поглотившего его судно вместе с остальными пассажирами.

Правда, с каждым днем мы делаем шаг за шагом к свободе, равенству и братству, к тем трем великим словам, которые революция 93-го года — Вы знаете, та, другая, вдовствующая, — выпустила в современное общество как тигра, льва или медведя, одетых в шкуры ягнят; пустые, к несчастью, слова, их можно было читать в дыму июня на наших общественных памятниках, изрешеченных пулями.



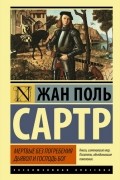


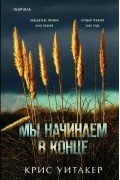




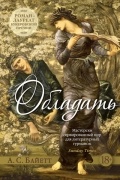






Другие издания