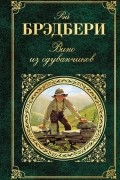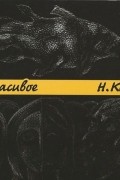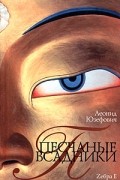АЛФАВИТ - БУКВА В

- 464 книги
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
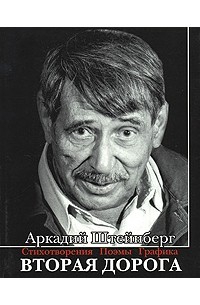
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Знакомство с творчеством Аркадия Штейнберга началось с его перевода БЁРРИС ФОН МЮНХГАУЗЕН (1874–1945) "ЗОЛОТОЙ МЯЧ"
Я в отрочестве оценить не мог
Любви отца, ее скупого жара;
Как все подростки – я не понял дара,
Как все мужчины – был суров и строг.
Теперь, презрев любви отцовской гнет,
Мой сын возлюбленный взлетает властно;
Я жду любви ответной, но напрасно:
Он не вернул ее и не вернет.
Как все мужчины, о своей вине
Не мысля, он обрек нас на разлуку.
Без ревности увижу я, как внуку
Он дар вручит, что предназначен мне.
В тени времен мерещится мне сад,
Где, жребием играя человечьим,
Мяч золотой мы, улыбаясь, мечем
Всегда вперед и никогда назад.
Затем оказалось, что Штейнберг еще блестяще перевел "Потерянный рай" Мильтона!
Затем прочел об авторе "Золотого мяча", и о самом переводчике, сидевшим дважды при Сталине, будучи (второй срок) воином-победителем и при орденах, друге С.Липкина, А.Тарковского, К.Паустовского и многих других уважаемых , талантливых и честных людей; трижды женатого и любящего своего черного безродного пса, которого ему подарили в Тарусе Ростропович и Вишневская,
Вспоминает В.Перельмутер: -...Армения с ее сарьяновской осенью. И как-то Мартирос Сергеевич вернулся после встречи со студентами художественного института почему-то задумчивым, даже слегка как будто растерянным. «Они меня всё время спрашивали: как надо писать? — сказал он. — А я им ответил: хорошо надо писать»…
И тут Штейнберг, по ему одному ведомой ассоциации, припомнил Одессу своего детства. Урок Столярского. «Ну, как ты играешь!» — прервал его Петр Соломонович. И вдруг спросил: «Ты борщ любишь?» — «Да». — «Мама борщ варит?» — «Да». И тут Столярский стал описывать — как, небось, мама варит борщ, что в него добавляет, какой дух от него идет. Делал это подробно, не спеша, со вкусом, словно пробу снимая с дымящейся ложки. И дождавшись, пока восьмилетний ученик начнет судорожно сглатывать слюну, подытожил торжественно: «Вот как это надо играть!»
Мильтон переведен поэтом, который прекрасно усвоил — как это надо играть.
Одной из первых покупок на гонорар за эту книгу была фисгармония. Демонстрировал ее с гордостью. Говорил, что мечтал о такой с отроческих лет.
Примерно с тех же, когда, обнаружил в отцовской библиотеке «Потерянный рай» в беспомощном, по нынешним понятиям, переводе Ольги Чюминой, возжелал — когда-нибудь — перевести это сочинение...
Он был благодарен тем, кто посадили его во второй раз: «Иначе я был бы совершенно другим человеком». Добавлю: иначе он, вероятно, и не перевел бы поэму Мильтона.
============================================
А потом-нельзя не знать ЕГО "Ворону"!
Белой простыней легла
Степь до края небосклона.
Наподобие орла
На столбе торчит ворона;
Словно трубочист, грязна,
Восседает с миной сонной,
Словно факельщик, полна
Мрачной спеси похоронной.
В бледном небе ледяном
Кажется тузом пиковым
Или перечным зерном,
Крохотным и пустяковым,
Неподвижным и смешным
Скоморохом с длинным носом,
Горбясь фитилем свечным
Над степным ковром белесым.
Но обуглено перье
До последнего огрызка, –
Знать гроза сожгла ее
На вершине обелиска;
В сизом воздухе вися,
Шоколадкой, сиротливо,
Съежилась печально вся
Наподобье чернослива;
Морщит с подозреньем лоб,
Словно тенор в паре фрачной.
Богомольная, как поп,
Черная, как черт невзрачный;
Чванная, как сатана,
Словно дипломат, надута,
Словно памятник, скучна,
Взятый с кладбища как будто;
Словно в глаз попавший сор,
Или, – что отнюдь не слаще, –
Скверный карточный партнер,
Неудачу приносящий;
Четкая, как нотный знак
На громадном стане стертом,
И уродливая, как
Ведьма, брошенная чертом;
Порошинкой в небеса
Выстреленная случайно
И, как нёбо злого пса,
Черная необычайно;
Хмурая, как "фонари" –
Метки чемпионов бокса,
Как лежавший до зари
Под дождем обломок кокса,
Словно рыночный товар,
Предназначенный к продаже,
Словно вакса или вар,
Словно хлопья легкой сажи;
То ли реет в облаках
Вдовий креп, вуаль густая,
То ль на свадебных шелках
Очутилась запятая;
Клевета на белый свет,
Возведенная когда-то,
Тень, которой гуще нет,
Иль кукушка из агата;
Озаренная кругом
Лунным блеском, ночь сплошная,
Муха в чашке с молоком,
Карамелька нефтяная;
Бант из бархатной тесьмы,
Похоронное убранство,
Кубок непроглядной тьмы,
Опрокинутый в пространство;
Нереальна, словно гном,
И серьезна и сердита,
Как торжественный псалом
Или бюст из антрацита;
Символ Страшного суда,
Истребленья плоти бренной,
Неизбывная беда
И проклятье всей Вселенной;
На скрещении дорог
Опаленный камень жалкий,
Вечной темени моток,
Ссученный на звездной прялке;
Некий колдовской сосуд,
Из которого по-братски
Дети дьявола сосут
Смоляной напиток адский;
Восседает на столбе,
Как поганая примета,
Как молва о злой судьбе,
Кем-то пущенная где-то,
Как предвестие конца,
Что еще во время оно
Беспокоило Творца,
И банальна, как... ворона.
И.наконец, просто необходимо знать и про свою, ВТОРУЮ ДОРОГУ, которая ждет:
Полжизни провел как беглец я, в дороге,
А скоро ведь надо явиться с повинной.
Полжизни готовился жить, а в итоге
Не знаю, что делать с другой половиной.
Другой половины осталось немного:
Последняя четверть, а может – восьмая,
Рубеж, за которым другая дорога –
Широкая, плоская лента прямая...
...Лишь мне одному предназначена эта,
Запретная для посторонних дорога;
Бетонными плитами плотно одета,
Она поднимается в гору полого...
Когда мне едва не пришлось в Ашхабаде
Просить на обратный билет Христа ради,
И я ковылял вдоль арыков постылых,
Дурак-дураком, по жарище проклятой,
Не смея вернуться в мой номер, не в
силах
Смириться с моей невозвратной утратой.
А позже, под вечер, в гостинице людной,
Замкнувшись на ключ, побродяжка
приблудный,
Впотьмах задыхался от срама и горя,
Как Иов на гноище с Господом споря,
И навзничь лежал нагишом на постели,
Обугленный болью, отравленный жёлчью,
Молчком нагнетая в распластанном теле
Страданье людское и ненависть волчью, –
В ту ночь мне открылась в видении
сонном
Дорога, одетая плотным бетоном,
Дорога до Бога,
До Божьего Рая,
Дорога без срока,
Дорога вторая.

Алла Голованова:
-Между прочим, слово аниматор в переводе с латыни означает “дающий жизнь”...
Роль, которую Штейнберг сыграл в истории русской культуры середины XX века, огромна. По его инициативе была проведена “бесцензурная” тарусская выставка 1961 года (предшественница знаменитой выставки в Манеже), успех которой повлек за собой создание Тарусского музея. Благодаря Штейнбергу обрели свое творческое лицо художники Дмитрий Плавинский, Борис Свешников, Борух и Эдуард Штейнберги и др. Он вырастил целое поколение блистательных российских переводчиков (Юрий Александров, Евгений Витковский, Роман Дубровкин, Владимир Летучий, Владимир Тихомиров, Илья Смирнов и др.).
Несмотря на все это, ни его биография, ни творчество не известны широкому читателю.

Роман Дубровкин:
-либерализм Штейнберга казался мне широким до расточительности: свободу высказываться он жаловал любому, никогда не вмешиваясь в чужие конфликты и стычки, даже если это происходило у него дома, и любил повторять строки из американца Карла Сэндберга в переводе своего друга Элизбара Ананиашвили:
Мафусаил жил, вероятно, восемьсот лет,
Или тысячу, или двести лет....
...........................................
Он был свидетель, соглядатай, как я, как вы.
Было у этого потворства, правда, одно существенное ограничение, связанное с попранием той же свободы, с борьбой (мне не избежать здесь громкого слова) против Зла. Однажды я принес ему свои переводы из Кавафиса, среди которых оказалось небольшое стихотворение «Сидонские юноши» со знаменательной концовкой:
«...и на закате возвышенно прожитых дней
помнить о славе Поэта, и только о ней,
не отметая, как сор, величайших трагедий, –
всех Агамемнонов и Прометеев, Кассандру, Ореста
и Семерых против Фив, – не безумье ли вместо
подлинных этих свершений гордиться чрезмерно,
что среди тысяч неведомых ратников шел ты к победе
в давней войне против Датиса и Артаферна!»
Аркадий Акимович (я никогда не называл его Акимычем) призадумался и вынес суждение, не имеющее никакого отношения к тайнам версификации: «Так что же важнее – писать стихи или воевать?» Для него, фронтовика, лагерника, ответ был прост до очевидности – конечно, воевать.

Виталий Пурто:
... считать работу Акимыча переводом текста Джона Мильтона можно в той же мере, в какой работу Джона Мильтона можно считать переводом текста Моисея, ибо оба творца - вполне оригинальны.