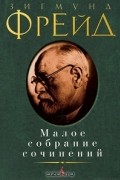Домашняя библиотека

- 2 144 книги
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
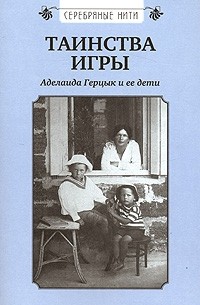
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Я лежал с любимой в вечерней траве и говорил с ней о любви и жизни на далёких звёздах.
Со стороны нас не было видно, и блаженно казалось, что трава и цветы говорят на ветру о любви… с кем? Со звёздами.
Мигали в траве светлячки. Мигали звёзды, в вечернем небе.
В шутку, я и любимая стали «читать» эти мигания, как Азбуку Морзе, как тайный язык природы.
Получалась чепуха: нежный бред влюблённого во сне. Так и хотелось спросить у природы: что тебе снится, милая?
Но иногда, таинственным образом, в этом лермонтовском диалоге светлячков и звёзд — звезда с звездою говорит! — прорывались обрывки странных и разумных слов, почти пушкинских, в том смысле, что строка трепетно обрывалась на загадочном полуслове и терялась в отточиях, словно бы переходя в иное качество света и жизни: в шелест листвы, в сердцебиение любимой у меня на груди — сердцебиение травы! — в перелистывающуюся от ветра, книгу рядом с нами: Таинства игры.
Но как, чем, прочитать этот шелест листвы, звёзд? Быть может, если сложить строчки этого шелеста, сияния звёзд, улыбку любимой, то получится стих, равный Цветаевскому, или получится мысль крылатого существа с далёкой звезды?
Соприкоснувшись с удивительной жизнью и творчеством Аделаиды Герцык, я ощутил вот эту таинственную связь… земного с небесным, как тогда, в траве, простёршись там с любимой и глядя на звёзды.
В юности я прочитал прелестный фантастический роман, запомнившийся мне какой-то красотой апокалиптики.
Земля умирала и ярость солнца готова была её поглотить.
Люди переселялись на далёкие звёзды. Было в этом что то библейское..
И в это время, на Марсе, экспедиция обнаружила руины таинственной цивилизации…
Боже, с каким трепетом я читал этот роман, со вздохом бросая взгляд на полыхающий, апокалиптический закат за окном, словно миру оставалось жить совсем немного…
А мне не страшно: узнать бы… успеть прочитать, что там, на Марсе.
Дочитав книгу, я вошёл бледный и почти просветлённый к маме на кухню.
Она что-то спросила меня, а я смотрел в окно и улыбался: я был близко к смерти, и вот я живу.
Это счастье. И пирожок со смородиной на столе, тоже, счастье…
Вы когда-нибудь задумывались… а что, если книга, которую вы сейчас читаете, будет последней в вашей жизни?
Если человек, с которым вы в данный момент общаетесь, это последний человек в вашей жизни а значит ваша душа быть может приоткрылась.. в никуда, ибо и эта книга скучна и пуста, и человек этот вам чужд.
Это же экзистенциально страшно: есть в этом тёмный холодок космического безмолвия, смерти… а мы к нему привыкли.
Так вот, Аделаида, тот удивительный человек, общаясь с которым, не страшно и умереть, ибо душа приоткрылась — в вечность.
В её творчестве нет ничего случайного, мелочного, наносного.
Есть редкие судьбы, у которых свет творчества и жизнь, идеально выровнялись и равны друг другу: словно исчезло мучительное расстояние меж телом и душой: Андрей Платонов, Перси Шелли, Аделаида Герцык..
Бердяев, нежно любивший Аделаиду, однажды назвал её сердце — гениальным.
Да, есть удивительные люди, не написавшие и строчки, но почерк их сердца сравним с лучшими строками Достоевского, Платонова, с живописью Рафаэля.
В жизни Аделаиды, мерцает какая то дивная тайна, что-то не от мира сего.
Знаете, есть такие дивные произведения искусства, так и кажется: если пойму их, проникнусь их красотой до конца, то всё станет ясно сердцу: и тайна бога, и душа человека и свет далёких звёзд…
Боже, как сладостно было представлять, читая «Таинства игры», что вокруг полыхает конец света, осень мира наступила, люди сходят с ума, теряя свой человеческий лик, а я сижу в своём кресле с чашечкой чая со смородиной, и не спеша, с улыбкой нежности, читаю Аделаиду Герцык, время от времени переворачивая книгу и поглаживая фото её и детей.
Что я знал об Аделаиде до этого?
Всего один забавный и милый до невозможности случай, похожий на тайную встречу ангелов.
Близкий друг Цветаевой — Макс Волошин, однажды вечером робко сказал ей:
И как сладостно потом сжалось сердце Марины от этого дарения!
Ей очень нравилась Аделаида, с которой она познакомилась 18-летней ещё. Аде было 35.
Марина вспоминала: Макс пришёл ко мне домой и сказал, со свойственным ему жаром: с тобой хочет познакомиться одна женщина. Глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая. Любит ваши стихи…
Марина пришла… и увидела только неотразимую.
Уже потом, тайно, с улыбкой призналась ей, что она знает, что Макс её подарил ей, и что ей очень приятно.
Аделаида ласково засмеялась: подарил? Марина! Макс мне вас… проиграл!
Свой первый сборник стихов — Волшебный фонарь, Марина подарила Аде, надписав на нём: моей волшебной Аделаиде..
А ещё она вспоминала, что Аделаида в её жизни, не меньшее событие, чем Макс. А Макс ей был духовно ближе и роднее мужа.
Ни об одной женщине Марина больше такого не сказала.
Именно в салоне Аделаиды, Марина с её подругой — Софией Парнок.
У Ады в её салоне был нежный культ немецких писательниц времён Гёте — Беттины фон Арним и Каролины фон Гюндероде: у них была сапфическая дружба.
Гюндероде покончила с собой, вонзив в грудь кинжал.
Ах, в юности я носил на груди портрет с милой Гюндероде..
Это была моя игра, с жизнью.
Название книги — Таинства игры — Серебряные нити.
Первые слова взяты из стиха Макса Волошина, на смерть Аделаиды, а вторые — принадлежат внучке Аделаиды, красавице Татьяне, работавшей над книгой: дань серебряному веку…
Но эти нити — мистические, как нити мерцающих звёзд на картине Ван Гога — Звёздная ночь над Роной.
Бердяев писал: русский Ренессанс, по существу, отразился в одарённой женской душе.
Мне даже кажется… Аделаида — это душа всего Серебряного века, таинственная Мать, к которой ведут все ниточки, метания и тайны души.
Писатель Зайцев, называл Аделаиду поэтом-святой.
София Парнок, в стихе на её смерть, дивно угадала в ней лунатика жизни, словно бы танцующего на карнизе жизни среди звёзд.
Волошин, в стихе на её смерть, выводит чуть ли не образ древней богини:
И далее:
Боже мой! Сколько звёздных ниточек протянулось к Аделаиде!
Публиковаться она начала в 1899 г., под псевдонимом… В. Сирин.
В этом году родился Владимир Набоков, который, безусловно, зная об этом псевдониме Аделаиды, всё же взял его себе: жест преемственности некой высшей игре, которая была в основе жизни и творчества Ады: игре, творящей красоту из ничего, побеждая даже смерть: птица Сирин поёт на заре, в таинственном лесу, завлекая странников…
Одной из таких странниц, была бывшая жена поэта Ходасевича — Анна Чулкова.
Ходасевич был ближайшим другом Набокова, он даже называл Ходасевича лучшим поэтом 20-го века.
Это был почти цветаевский голос из под земли. В том смысле… что Анна пошла на голос Аделаиды, когда она уже умерла. Этот голос был тепло разлит в крови и творчестве её старшего сына — Даниила (Далика).
Он был ещё совсем юн, когда женился на Анне, в два раза старше него.
Даниил любил творчество Ходасевича, и она знал что муза Ходасевича и матери — родственны:
Это был странный брак. Анна влеклась в Далике к нежной музе Ходасевича и Аделаиды, а он… так Розанов женился на Апполинарии Сусловой только за тем, что она была любовницей Достоевского.
К слову, Цветаева в эмиграции, сделала посвящение своего сборника «Ремесло», Далику, которого видела в последний раз когда ему было 2 года.
Она передала эту книгу своему любовнику — Гронскому, который трагически погиб под поездом.
И снова странные, серебряные нити сближения: уже Далика и Гронского, юного поэта с трагической судьбой.
Любопытно, что Далик, в том самом возрасте, в каком в последний раз его видела Марина, чуть не попал под поезд, быть может ехавший в Париж, где и погиб Гронский.
(всего этого в книге нет, этих нитей, я их нашёл уже сам, после).
Но вернёмся у Аделаиде.
К Цветаевой у неё тоже протянулись мистические нити сближения: польско-немецкие корни. Ада и её сестра Женя, рано осиротели, потеряв маму.
Ада росла ребёнком-лунатиком, блуждающей где-то в своих видениях, книгах, странных играх: от малейшего грубого прикосновения мира, словно Мимоза из поэмы Шелли, её душа сворачивала свои лепестки и веточки с шипами, и уходила в себя, раня себя же: проблема была в том.. что её душой была красота мира, и её мог обидеть кто угодно.
В детстве, за насупленный вид, за вечную складочку между бровями, её в шутку сравнивали с Бетховеном.
Есть в таких обмолвках детства, что то пророческое.
В детстве, Ада не доверяла взрослым и миру, словно сотворённого ими нарочно: они словно убивали в этом мире красоту.
Есть в мире такие бездны полутонов, которые взрослые уже не видят, как и разум.
Для них бог — либо есть, либо нет.
А для сердца ребёнка, может быть 5-6 измерений этой мысли о боге, о чуде жизни… в его таинстве игры.
Ада бережно оберегала мир своей души, словно редкий цветок, от касания взрослых и мира: она была словно глуха к их сумрачно-ложному миру.
И в этом был её «путь зерна», как сказал бы Ходасевич.
Ещё совсем юной, Ада пережила трагическую любовь, словно бы написанную Цветаевой.
Она была влюблена в некоего Пушкина. Женатого, с детьми.
Его положили на операцию где-то в Германии.
Вечером она получила телеграмму: её любимый в тяжёлом состоянии…
Всё бросив, она помчалась к нему.
Всё было как во сне.В белой, слепящей акустике сна: зацветший от солнца блеск паркета — словно асфоделиевые цветы.
Бледный туннель коридора и раскрытая дверь в палату — словно крыло ангела: ангел замер и смолк, не решаясь войти.
Не слыша себя, мира, душа пошла по цветам, к любимому…
Никого не было. Ни в больнице, ни в утреннем Берлине, ни в мире.
Лишь она и он.
Входит… сначала, душа, а тело за ней, робкой тенью, не решаясь видеть то, что случилось.
На полу лежал подсвечник. Свеча догорела. Жизнь, догорела.
На постели, в совершенном одиночестве — медсестра куда-то ушла, — лежал и умирал её любимый, бредя о ней, и вот она здесь, с ним.
Быть может он до конца и не понял, что она не бред, а настоящая, живая. Улыбнулся своему ласковому бреду и умер на руках у Аделаиды.
Несчастная девушка испытала такой шок, что оглохла от горя.
Мир, конец 19 века, отхлынул голубой и прохладной волной… вместе с её сердцем.
Ада до конца жизни стеснялась своей глухоты, как шрама, через всю душу.
Но это был её путь и знак: не слышать безумие и суету мира, толпы; слышать лишь родные голоса-шёпоты друзей и душу свою, красоту мира.
И почему Волошин назвал её некрасивой? Почему многие мужчины называли её некрасивой? Что с ними не так?
Милая, прекрасная Ада… несравненная.
Цветаева была права.
Данная книга — маленькое чудо и один из самых редких островков красоты Серебряного века.
На обложке, в окне, как в русской сказке — Аделаида, а под ним, её дети — Далик и Ника.
Творчества Аделаиды в книге всего ничего — маленькая статья о детстве и изумительная повесть «Неразумная», о матери и ребёнке.
Всё остальное в книге — творчество её детей.
И эта композиция, составленная её внучкой Татьяной, чем-то напоминает трансцендентальный роман Набокова — Бледный огонь: сам роман — всего пару страниц, в виде поэмы, а всё остальное — комментарии к нему.
Воспоминания уже взрослых детей о матери… боже мой, это читается как житие святой от поэзии.
Сначала мне было обидно, что в столь гармоничном сборнике, нет раздела стихов Ады.
Но потом подумал.. нет, они есть, в воспоминаниях сыновей, и это выглядит как мгновенные промельки солнца, синевы, скозь листву, словно синевой и небом шелестит листва и ты едешь куда-то в сторону дома и сердца, и жадно ловишь каждый такой блик.
Воспоминания младшего — Ники, особенно прелестны.
Это поздний ребёнок. Аде уже было под 40.
Она ему посвятила стих:
Это был мечтательный и болезненный мальчик. В его глазах светилось что-то небесное.
Он сам, малыш ещё, придумал ритм для этого стиха и мама словно погладила его душу словами.
В пору революционного лихолетья в Крыму, Ада с детьми сильно голодали и Ника шептал маме с кроватки: убей меня, или дай еды…
Похоже на эпизод из романа Платонова.
И сейчас то, читая такое, в анестезическом смягчении времени, на глазах проступают слёзы.
А каково было матери это слышать?
Многие сведения об Аделаиде я узнал из других источников.
Например, у неё однажды на голове случилось воспаление, язвы, от голода.
Нужно было обриться, но чтобы не пугать Нику, ибо и так вокруг полыхал ад, расстреливали людей, Аделаида обрила всю голову… кроме локонов по краям.
Когда она надевала косынку или шляпку, всё было чудесно, а когда снимала её перед другом — и смех и слёзы.
Чем-то похоже на наш безумный мир, правда? Он тоже скрывает от нас, словно от детей, некое безумие и правду.
В этом тоже была некая игра Ады.
В Крыму её посадили в подвал на несколько недель. Мужа сослали куда-то.
Дети остались почти одни. Это было сошествие Эвридики в ад.
Там она навидалась ужасов, видела расстрел матери и сына: словно в аду… подсмотрела будущее.
В тюрьме был молодой следователь, любитель поэзии.
Он с улыбкой попросил Аделаиду — так просят в аду. Не откажешь. — чтобы она надписала книжечку своих стихов, что она посвятила их ему. В обмен на свободу.
Птица Сирин в клетке…
У Набокова есть стих-сон, о поэте с возлюбленной, в стране их грёз, где они стихами покупают себе все блага жизни: счастье, крылья, и на далёкой планете, уютный рай…
Стихи Ады, даровали ей жизнь.
Кто из поэтов пережил это чудо?
Эвридика вернулась из ада, спасти детей.
Был такой поэт — Китс. Критика его стихов убила его, вызвав лёгочное кровотечение.
А стихи Ады, вырвавшиеся с кровью из груди, спасли её.
Слово — равно жизни. Почти евангельский мотив…
Символично, что уже позже, её старшего сына, арестуют за хранение стихов Волошина: её стихи спасли жизнь, а там — погубили..
Аделаида обратилась в Золушку, почти забыв про стихи и служа своим детям, спасая их от смерти.
Бытие превратилось в быт.
Достоевский писал в ПиН, что не только ад, но и весь Тот свет, быть может похож на покосившуюся баньку с пауками.
А что… если вместо пауков, будут несчастные музы, словно мотыльки, бьющиеся ослепшими крыльями о грязную синеву в маленьком окошке?
Это ещё хуже пауков. Это нравственно невыносимо.. похоронить в себе то, что вложил в тебя бог.
Для Цветаевой это тоже стало адом, но она иначе это переносила, словно Дон Кихот сражаясь с чадящей печкой, пелёнками, грязной посудой.
Она писала: Бог меня спросит на страшном суде не о «ложках», а о том, что он в меня вложил и что я сделала с этим.
И как же с этим справляется Ада, с детства мучимая своей двойственной душой, богом и сомнением, поэзией — как высшей игрой жизни, и сомнением, что это что-то ненужное, и в годину бед, это не нужно и стыдно быть поэтом.
И случается чудо. Снова дрожат серебряные нити жизни… но не паучьи, звёздные: её диалог души с поэтами прошлого.
Например, с Блоком.
У него воспевается таинственная прекрасная Дама, а у Ады — Христос.
Я сам воспевал в юности Даму и Вечную женственность, Софию, и была у меня усмешка пренебрежения к воспеваемому многими — Христу, и лишь спустя годы я понял, что это по сути одно и то же. Всё та же игра и молитва души.
Молитва и тоска природы о высшей правде и красоте, которых так трагически мало в нашем мире.
Есть даже в этом что то… духовно-сексуальное.
Был некто, кто молившись в храме, у фрески с ангелом — влюбился в него. А по сути, влюбился в блики зари на лазурных витражах, влюбился в природу, её душу.
Ада ведёт с богом тайный разговор, словно Эмили Дикинсон с богом, обращавшейся в пчёлке на цветке или шелесту листвы.
Ада спрашивал в стихе, душу и небо: Скажи, успокой, есть ещё, ангелы?
Словно мир кончился, нет уже рая и ада, всё безлично сравнялось и бог ходит неузнанным странником среди тлеющих руин мира, ищет сына своего, вновь убитого.
Но Аделаида, «сестра всему живому», иначе перерабатывает в себе апокалипсис жизни, в отличии от Блока, у которого это соскальзывает в кошмары видений и мировую тьму, где умер не только бог, но и человек.
А у Ады, этот диалог чудесным образом преображается в кротость и неземной свет.
Мир становится храмом. Бог — любовью и жизнью.
Вот Аделаида пошла утром на рыночек и чудом урвала для детей, горсточку смородины и кусочек хлеба: разве это не чудо? Не живая строчка стиха?
Простой кусок хлеба, алая кровь смородины и улыбка ребёнка, вспыхнули тёплой рифмой тела Христова, а «обряды» у кастрюль, улыбка утреннему шелесту листвы, когда людей ещё не видно и мир кажется не таким уж безумным, заменили обряды религиозные.
Аделаида здесь словно воссоздаёт средневековую гравюру — София Премудрость Божия, в облике женщины в синем платье, играющей на золотой арфе (к слову, в конце жизни Аделаида приняла православие и взяла имя София. Как и София Парнок, её милая подруга).
Не понимаю, как такое можно читать без слёз: как можно спокойно смотреть как рушится храм? Как убивают прекрасную лань, рождённую для красоты?
И, наконец, как Аделаида… бесконечно уставшая, затравленная жизнью, живя в аду, порой выгадывала себе на краешке кухонного столика в муке, место, на котором на обрывке листка писала стих (помните стих Цветаевой — Стол, который волшебно ширится до размеров страны, мира? а у Ады.. он кошмарно сужался, таял, до размера сердца: острым углом в сердце, как новорождённый и ослабший ребёнок...).
Ада кротко улыбалась, глядя на написанный стих, словно бы что-то вспоминая и.. лёгким движением руки, роняла его в мусорное ведёрко: кому нужна красота, слова о боге, в аду?
Почти так же писал и Андрей Платонов, сбрасывая со стола рукопись, не нужную миру, в корзинку, стоявшую под столом.
У этого брошенного листка, летящего в пустоту, грация не то мотылька в аду, не то самоубийцы.
А ведь когда-то Ада часто думала о том чтобы покончить с собой…
И тоже без равнодушно невозможно читать, как порой Ада нежно преображалась и читала маленькому сыну Далику свой новый стих:
Это почти танец Русалочки из советского фильма, когда уже утрачена надежда и душа в последний раз — поёт и танцует, «пляской горестной, молится».
Маленький Далик смотрел на свою маму, как она читает этот стих в замаранном передничке Золушки, танцуя этот стих, вытягивая ножку и к бёдрам прикладывая руки… ах, Эсмеральда!
Ада спрашивает с улыбкой ожидания: ну как? Понравилось?
И ребёнок, глупенький, сидя на стульчике, болтая ножками… в аду, словно на первом рядом театра в аду, ибо нет уже мира, людей, пожимает плечиками: да так…
И у Аделаиды поникли глаза, опустились руки… — всего лишь на миг! — и она с улыбкой приносит из кухни сыночку лучший стих — пирожок со смородиной!
Боже мой… и какой же катарсис у читателя, почти до слёз, когда уже взрослый Далик вспоминает об этом за кадром вечности, воздаёт должное стиху мамы… которой уже нет.
Милая Золушка… у неё с Даликом была одна пара рваных ботинок, на двоих.
Плоть к плоти, сердце к сердцу… словно по его стопа в будущем, шла душа матери, что-то предчувствуя.
А как Ада радовалась Далику, когда он делал первые шаги! Открывал двери, и радовался словно чуду..
Она говорила с улыбкой: ключником будет: метафизиком!
Даниил и правда рос маленьким гением, ища в жизни какую–то тайну.
После тяжёлой болезни, по совету мамы, когда ему всё стало казаться пустым и ничего не радовало, он стал молить бога в храме, о творчестве.
Когда ребёнок в жаре, болеет, молится богу о чуде, кажется — звезда говорит со звездою, как в стихе Лермонтова.
И бог даровал Далику муку и радость творчества.
Мать, спасая сына от смерти… ввела его в свою Нарнию — мир творчества и игры с красотой. Но расплата за это — отверженность в мире и одиночество.
Далик вообще удивительно напоминает некоторых персонажей Андрея Платонова и Набокова: Приглашение на казнь.
И совсем уже мистическим, до мурашек на сердце и до слёз в горле, читаются воспоминания Даниила… пишущем о пророческом для него стихе матери.
Уже позже, в воспоминаниях одной женщины того времени я узнал, что этот стих Аделаида принесла матери расстрелянного сына и встала перед ней на колени.
Этими стихами убитая горем женщина, потом молилась.
Это тоже особенность стихов Аделаиды: её стихи похожи… на маленькие иконки красоты и боли.
Или вот, стих, пронзительный в своём рафаэлевском ракурсе:
Ребёнок и мать умерли и смотрят издалека на грустно затихший мир.
Им словно нет места в этом мире.
С одной стороны, ребёнок — это душа Аделаиды, её игра с миром. С другой стороны, это гераклитова мысль о ребёнке-боге, творящего мир своей игрой.
Ну и конечно, образ Аделаиды и Далика (зеркальное переплетение звукописи их имён). Пророчество о сыне.
Даниила расстреляли в 1938 г., в день рожденье матери, 16 февраля. Ему было всего 28 лет.
Его мятущаяся душа, искавшая истину в творчестве, жизни, любви, словно бы вернулась, намучившись, к матери, став тем, кем он и был до рождения: блеском вечерней звезды, шелестом тёмного леса рядом с тем местом, где захоронена Аделаида.
Кладбище сравняли с землёй. Её могила неизвестна, как и могила сына. К слову, в этом Аделаида предвосхитила судьбу Цветаевой и её сына Мура: его убили на фронте в Беларуси и могила его неизвестна. Могила Марины тоже заросла травой.
На месте захоронения Аделаиды в Судаке, теперь стоит клиника.
Для Ады, вся её жизнь словно была клиникой, где она — сестра всему живому, ухаживала за страждущими, словно бинты, накладывая свои стихи на израненные души.
Аделаиду можно назвать — нежнейшим Платоновым. Он однажды написал — мне без истины стыдно жить…
У Ады с детства был этот экзистенциальный стыд.
Вышла за нелюбимого, пожалев (Волошину писала: у меня в жизни изменения. Ко мне пришёл человек с протянутой рукой и бесприютной душой и я пошла на его зов.. Чем-то похоже на отношения Цветаевой и Эфрона) Сколько мы таких истин, не нужных нам, делаем частью себя, из жалости а потом они нас разрывают изнутри?.
Мысли о самоубийстве сменились у Ады порывами к богу и храму.
А как придёт в церковку возле леса, сядет у окошка… и сердце как цветок у окна, прильнёт к голубой тишине стекла и затоскует по красоте мира.
Значит и храм не то. И брак, и стихи и жизнь..
На что же опереться душой в этом безумном мире?
Снова и снова возвращается Ада в Нарнию детства, вспоминая свои странные игры.
Была в её детстве одна особенность, в стиле Мисимы.
Она где то прочитала, как негров на каком то острове привязывали к столбу за ногу и раскачивали в воздухе, пронзая копьями.
Её детское сердечко сладостно трепетало от этого насилия, возбуждало.
Если бы эта игра шла лишь по спирали плоти, то это и вылилось бы в нечто запретное, тёмное, даже в сексуальном плане. Но к этому всегда примешивалась душа.
Ада с сестрёнкой играли в саду в «негров». Привязывали себя к жёрдочке и раскачивались так головой вниз и падали в траву, блаженно-счастливые.
Это было чисто поэтическое стремление сделать боль и душу другого — своей болью и душой. Боль мира — своей болью.
А ночью она, подростком, воображала себя в средневековом монастыре, что её пытают. И тогда она тайком вставала, раздевалась и ложилась голой на холодный пол и лежала так, смотря в потолок.
Всё это как-то таинственно переплеталось с жизнью и судьбой её сына Далика, говорившего в детстве языком героев Платонова: мама, зачем мне спать? Я всё равно скоро умру…
Серебряные нити души протянулись в книге от матери к сыну.
В книге представлен детский журнальчик Далика и Ники: они его издавали сами, чтобы отвлечься от ад аи голода.
Чудесные описания детьми свои впечатлений и снов.
Представлены в книге дивные, прустовские по силе, воспоминания Далика о детстве. Уже взрослого.
Он словно с матерью возвращается в своё детство, ищет там знаков судьбы, «ключа».
Но мы то знаем что ждёт вскоре Далю, и потому эти мемуары о детстве вспыхивают вспыхивают остросюжетным мистическим триллером.
Было у него с детства его собственное слово — «путанка» (от путаницы) , влечение к запутанности ветвей тёмного леса, кустарника, покрывала на стульях на полу — рай детства и блуждание по лабиринтам тьмы, словно вспоминая рождение.
А вот уже Далик совсем взрослый, чем-то напоминает цветаевского сына: сходит с ума в одиночестве, отверженности, голоде.
Он мучим странными мыслями, с достоевщинкой: а сладко было бы.. чтобы меня схватили, осудили, и даже… расстреляли. Хоть какое-то движение в жизни…
И вот уже самоубийство ярко манит платоновским приключением в смерть.
Жизнь запуталась. Путанка... словно ребёнок заблудился в тёмном лесу и зовёт маму… которая умерла.
Далик в это время трепетно тянется к природе, словно к матери. Он бродит но ночам босиком по горам и прибрежью Крыма, лежит в траве с любимой при луне: природа, самое лучшее, что есть на свете. Загробный мир мне представляется в виде природы…
Ах, не случайны были игры матери в детстве!
Сын Аделаиды вырос и игра продолжилась, узоры стали совпадать, и он теперь как негр из детских игр мамы, прикован и его пытают и он лежит измученный обнажённый на холодном полу в подвале, похожем на келью 16 века и смотрит бессонным биением сердца в клочок звёздного неба в узком и пыльном окне, словно мир — стёрт, зарос тишиной, безумием людским, и ещё чуть-чуть, и сотрутся и эти звёзды.
Даля пишет пророческий стих, как когда-то мама, нежно соединяясь в нём с ней, природой и… смертью: высшей запутанностью жизни.
Невероятная по композиции книга о матери и двух её детях, укрывающих продрогшую душу матери, тёплыми крыльями воспоминаний и творчества.
Есть в этом что-то от картины Климта — Мать и дити.
Мать и ребёнок, нежно слиты в одно. Наклон существования, покрова — словно гелиотропное моление наклона солнца, и в этом есть что-то от иконы Рублёва — Снятие с креста: жизнь и смерть сливаются в одно — в любви.
С. Булгаков написал после смерти Аделаиды: у меня давно, ещё в Москве, было о ней чувство, чтоо она не знает греха, стоит не выше его, а как-то — вне.
И в этом была её сила, очарование и вдохновенность.
Сама о себе Ада писала:
Это так странно, таинственно: когда у Ады было всё: достаток, сытость, поездки по странам, она мучилась бессмыслием жизни, неверием в бога, мыслями о суициде, а когда всё рухнуло, когда мир стал осенне облетать и сквозится синевой… она разглядела в мире что то главное.
Большой раздел в книге посвящён письмам Далика к сестре матери — Евгении Герцык, так же удивительной женщине Серебряного века.
Если бы мне сказали, что я бессонными ночами буду зачитываться письмами неизвестного мне парня к не менее неизвестной мне женщине, я бы удивился.
Это… что то невероятное. По искренности и пылкости (чем-то схожей с моей, так что мне казалось, что я подсматриваю свои же сны сердца) достоверности обнажённого сердца, это так же сильно, как ночные разговоры при свече, героев Достоевского. Какая то сплошная душа… облитая плотью.
Далик очень похож на Шатова из Бесов (Шатушка!).
А что ещё можно было ожидать от ребёнка, разговаривающего в детстве с богом?
Он сорвался сердцем в бездны математики, искусства, почти набоковской вязи тайны слова и жизни.
Это уже не лермонтовское: звезда с звездою говорит..
Кажется, что ранимая, пылкая и бесконечно одинокая в своём проклятом веке, душа, находящаяся словно в ссылке на далёкой и адской планете, пишет пронзительные письма… ангелу.
Достоевский сказал о Пушкине, что он унёс в могилу какую-то великую тайну.
А что унесла с собой Аделаида? Какую тайну о детском восприятии мира, в котором сокрыта тайна творчества, бога, любви ко всему живому?
Новая, несказанная луна Серебряного века, меланхолически-фон-триеровски, взошла в искусстве и над нашей грустной эпохой. Точнее две луны — Аделаида и её сын Даниил.
Стоит сказать и о младшем сыне Ады.
В годы крымского голода, она написала маленькой девочке соседке записку-шараду: первое это то, на чём ты стоишь. Второе — кто к тебе вечером придёт. В вместе — ягода.
Ника прошёл метания между искусством, математикой и религией, но выбрал медицину (интересно, бывал ли он в клинике на месте могилы матери?)
В книге есть раздел с творчеством Ники: эдакие лирично-буддические сказки. Хорошие.
Но… помните, как Ада, томимая по свету религиозности, приходила в храм, сидела у окошка… и такая красота мира сяла там, что она вставала и шла к ней, из храма.
Так же Ада посидела бы и у окошка буддизма Ники.
Его брат, мама, метались в поисках истины, а Ника...словно успокоился на ней.
Мне так грустно видеть, как сейчас пошла мода на мистицизм, реинкарнации.
Но это как знание ботаника по сравнению с восприятием ребёнка или влюблённого о цветке: кому нужно слишком близкое приближение к истине? Только сушит сердце.
В годину голода в детстве, Ника сильно болел и был на грани смерти.
Аделаида вспоминала, что эти дни и страх за сына, дали ей странный религиозный опыт: она видела у изголовья бледненького и худенького сына — сияющего ангела.
Когда Ника умирал в 1995 г., мучительно, он в бреду вспоминал, как с матерью стоял в детстве в церкви: мать молилась за детей.
Ника попросил похоронить его по православному обычаю.
В этом сближении с мамой, в смерти, есть что-то пронзительно милое.
Быть может, он увидел духовным взором, сияющего ангела у своего изголовья — Аделаиду?
Быть может весь его буддизм, был нужен для того, чтобы снова увидеть маму?

Меня оскорбляло, что люди всему находят объяснение, мне казались нечестивыми их попытки исследовать тайны.
Мне хотелось взять мир под свою охрану от убивающих взоров взрослых.

"Борьба эта [человека с фатальными силами] безнадежна, пока человек полагается на самого себя. Но когда в нее вмешивается Бог, рок отступает, - будь то рок имени, характера или внешних обстоятельств"
/Наталья Бонецкая Перипетии игры/

"может быть, я играю в свою собственную душу и стараюсь вообразить, что испытывает она, живя внутри моего тела, должно быть такого же уютного и родного для нее, и глядя сквозь окна глаз, как снаружи проносятся чужие и далекие образы бытия. <...> Кто знает, откуда брались эти золотые минуты счастья, для всех нюансов которых взрослый, с его оскудевшим мирочувствованием, придумал только нехорошее и бедное слово - "уют", "чувство уюта"?
/Даниил Жуковский/