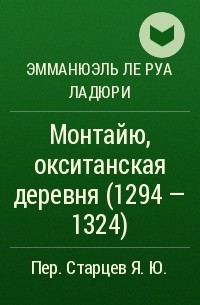"... вот-вот замечено сами-знаете-где"

- 39 918 книг
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
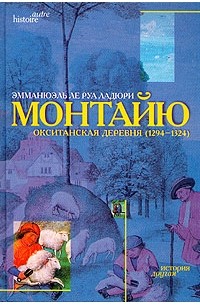
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Монография знаменитого историка с непонятно длинной фамилией поначалу формировала странные и смешанные впечатления. Она относительно легко читается — это вовсе не заумный научный труд, для понимания которого нужно быть шестидесятилетним профессором и доктором наук. Иностранные историки вообще обычно пишут более популярным языком, нежели наши. Дочитав книгу до конца, я думаю, что причина странноватого стиля письма (обилие коротких предложений) скорее в недостатках перевода.
В научном подходе Ладюри заметно влияние структурализма: он рассматривает и крестьянские дома-остали с семьями, и деревенские кланы, саму деревню Монтайю, Сабартес — местность, в которой она расположена, — как структурные общности разных уровней. Поэтому он обращает особенное внимание на связи внутри этих общностей и между ними — браки, отношения наёмных пастухов и служанок с их работодателями, мужское и женское общественное мнение — разговоры на площади после мессы, домашние посиделки (с вином или без него) и сплетни досужих кумушек. Да и Леви-Стросса он несколько раз упоминает в самом тексте и в сносках. Но, с учётом всего этого, назвать Ладюри структуралистом чистой воды попросту язык не повернётся — он очень много внимания уделяет отдельным людям, живущим в деревне или ушедшим из неё, разбирает психологию священника Пьера Клерга, пастуха Пьера Мори.
Пожалуй, высказывания и отрывки разговоров средневековых крестьян, записанные инквизиторами — это самые интересные места в книге для читателя — не профессионального историка или, во всяком случае, не профессионального медиевиста.
Жители средневековой деревни — люди своеобразные. Они вполне могли бы стать персонажами какого-нибудь остросюжетного романа, в основу сюжета которого лёг бы клубок конфликтов и противоречий, завязанный внутри Монтайю и вокруг неё. В этом клубке тесно переплелись борьба за власть и влияние, катарская ересь, отношения между разными семьями, дружба и кумовство, внебрачный секс и надежды выйти замуж, истребление соперников и месть. В этих условиях игроки политической арены деревенского масштаба действуют цинично и целенаправленно, нередко — откровенно жестоко, до последнего пытаясь добиться своих целей.
Сильно удивило какое-то уважение автора к Пьеру Клергу, которое иногда пробивается через в целом объективное отношение Ладюри к действующим лицам своей книги. Что симпатичного может быть в лживом, похотливом и жадном священнике, рассуждающем о желательности инцеста (и однажды реализующего это своё стремление), сдающем односельчан инквизиции, чтобы отвести удар от собственных сторонников? В одном месте Ладюри прямо противопоставляет Клерга епископу Фурнье; как по мне, честный, неподкупный и принципиальный инквизитор, в какой-то степени даже гуманный (он избегает применения пыток в своей работе, и отправил на костёр лишь одного человека из зараженной ересью деревни), оказывается намного более привлекательным персонажем, чем двуличный кюре.
Настойчивый, резкий и почти бесстрашный протест крестьян против церковного диктата и в первую очередь против непомерного церковного налогообложения лишний раз напоминает о том, насколько отвратительна церковь в неестественной для неё роли собственника.
Да и некоторые «совершенные» из катаров недалеко от неё ушли — они попросту паразитируют на своих последователях, кормясь подачками «верующих» и беря у них в долг без возврата. Сама популярность катарства среди народа верхнего Фуа во многом обусловлена нежеланием местных крестьян платить церковную десятину. Это, разумеется, не единственная причина — есть и другие, глубоко психологического характера.
Порадовало ещё вот что: Ладюри очень чётко показывает роль и место религиозных убеждений в борьбе за власть. Не слишком умные люди нередко говорят, что религия толкает людей к вражде, нетерпимости и преступлениям. Это не так; религия в таких случаях выступает только как символ, знамя и официально объявленная цель, которая прикрывает низменные стремления людей (а именно в них причина вражды и преступлений, в данном случае). И у Ладюри это очень хорошо показано: клан Азема борется против клана Клергов не потому, что первые — католики, а вторые — катары, а потому, что Азема хотят получить рычаги для управления, тем самым обеспечив собственное доминирование в деревне. Религиозная принадлежность здесь выступает именно как знамя в политической борьбе. И никого нельзя назвать абсолютно чистым в его вере: католик Пьер Азема в молодости интересовался идеями катаров, а внутренние катарские убеждения Пьера Клерга нисколько не мешают ему работать (именно работать, а не служить) католическим священником.
О религиозных и связанных с религией воззрениях людей Средневековья рассуждать можно очень долго. Всего не пересказать, да и незачем это — лучше прочесть книгу самому, поэтому не буду на этом подробно останавливаться. Замечу только, что используемая Клергами практика сохранения кусочков трупа (волос и ногтей) умершего родственника, вмещающих в себе часть удачи domus и призванная обеспечить сохранение этой удачи, сильно напомнила христианское почитание мощей святых.
Что мы имеем в сухом остатке? Обстоятельное, подробное, даже дотошное исследование жизни и ментальности средневековых французских (ладно, ладно, окситанских) крестьян (и не только их). Автор вдумчиво работает с источниками и понятно излагает свои выводы. Пожалуй, исследовательскую дотошность Ладюри можно сравнить с дотошностью самого Жака Фурнье — епископа и председателя трибунала инквизиции, материалы которого легли в основу монографии. Кстати, можно вспомнить, что и «Сыр и черви» Карло Гинзбурга — вторая первопроходческая работа в жанре микроистории — тоже основана на материалах инквизиции. Вот такая вот общая черта двух книг в плане источников. «Монтайю», безусловно, заслуживает внимания; она точно будет любопытна тем, кому интересна социальная история в её личностном, индивидуальном выражении — то, как жили, работали и понимали мир вокруг себя люди прошлых эпох.

Книга Ле Руа Ладюри посвящена горной деревеньке, где проживало около трехсот человек. В начале XIV века деревушка стала объектом пристального внимания местной инквизиции, искавшей следы катарской ереси, которых в деревушке было предостаточно: хотя альбигойский крестовый поход закончился почти сто лет назад, в деревушке почитали добрых людей. Сохранили протоколы допросов на несколько томов, из которых Ле Руа Ладюри и сделал книгу, где описываются обычаи и верования селян, с цитатами и пояснениями.
Надо отметить, что деятельный епископ Каркассона не зря таскал на допросы жителей деревеньки: за время его деятельности было несколько случаев эндуры. Из книги Шафаревича о сектах, в которых зарождалась социалистическая идеология: «Большинство катаров не надеялось исполнить строгие заповеди, обязательные для «совершенных», и рассчитывало получить «утешение» на смертном одре, нaзывавшееся «добрым концом».
…Часто, когда больной, принявший «утешение», потом выздоравливал, ему советовали покончить жизнь самоубийством, которое называлось «эндура». Во многих случаях эндура ставилась как условие «утешения».Нередко ей подвергали стариков или детей, принявших«утешение» (конечно, при этом самоубийство превращалось в убийство). Формы эндуры были разнообразны: чаще всего голодная смерть (в особенности для детей, которых матери переставали кормить грудью), но также кровопускания, горячие ванны, сменяющиеся резким охлаждением, напиток с истолченным стеклом, удушение. И. Доллингер, разбиравший сохранившиеся архивы инквизиции в Тулузе и Каркассоне, пишет:
«У того, кто внимательно изучит протоколы обоих вышеупомянутых судов, не останется никаких сомнений в том, что от эндуры погибло гораздо больше людей – частью добровольно, частью насильно, – чем в результате приговоров инквизиции» (Dollinger J. Beitrage zur Sektengeschichtedes Mittelalters. Erster Theil. Geschichte der gnostisch-manichaischen Sekten. München, 1890., p. 226)» [2, с. 204 – 205].
Современный французский историк к нравам катаров относится спокойно, даже с любованием: катарский край, сильные традиции, укоренившиеся практики. Этот спокойный заинтересованный тон "волшебника из страны Ок", как называют его в послесловии, дарит отдельные сильные эстетические переживания.

В целом режим не был полицейским в современном смысле этого термина. Но в конечном счете человек жил в кафкианском мире доносительства, если только не вел себя абсолютно безукоризненно. Даже в горах, последнем убежище свободы слова, за опрометчивое высказывание могут неожиданно «взять за глотку» кюре, байль, викарий, сосед или такая же болтушка.

Одним махом обрисовал он созвездие властей, «отечески», каждая по-своему, опекавших Монтайю. Миром, — заявил он, — правят четыре больших дьявола, папа, дьявол наибольший, котрого я называю Сатана; король Франции суть второй дьявол; епископ Памье — третий; инквизитор из Каркассона — четвертый дьявол.

Жители деревни носили на себе — самое естественное на свете — целую фауну блох и вшей: чесались, выбирали друг у друга насекомых (как это ныне с любовью делают человекообразные) все с самого низа до верха социальной лестницы, в порядке дружеской и семейной услуги. В этом нет ничего удивительного для окситанской цивилизации, где один из пальцев так и назывался — вошебойный. Любовница искала вшей у любовника. Служанка — у хозяина. Дочь — у матери. Это был повод поболтать всласть, когда говорят обо всем и ни о чем: о женщинах, о божественном или о поведении «совершенных» на костре. Были годы блох, вшей, мух, комаров, ибо их активность была подчинена дьявольскому ритму. И, наоборот, бывали периоды поспокойнее. Тогда меньше думали о паразитах и больше — об угрозе инквизиции.








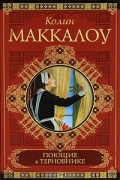





Другие издания