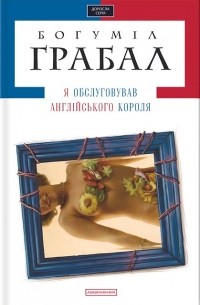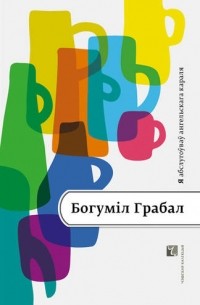Экранизированные книги

- 1 811 книг
Это бета-версия LiveLib. Сейчас доступна часть функций, остальные из основной версии будут добавляться постепенно.
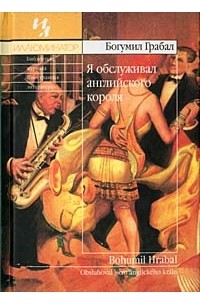
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Я думал, что обжорства больше, чем у Макса Фрая быть не может. Блюда различных кухонь мира, вина, коньяки, деликатесные салями и прочие абсолютно некошерные нямки, которые приведут в ужас любого диетолога и вегетерианца. Такое ощущение, что находишься на кулинарной выставке. Или даже – в кулинарном музее, где смотреть можно, а кушать нельзя, ибо это экспонаты, или в данном случае текст, но, сука, такой аппетитный и реалистичный, что ты прямо чувствуешь эти запахи, как они нежно щекочат твой нос и желудок временами начинает тихонько постанывать, эти слова действительно выглядят, как аппетитные куски мяса, а эти позвякивания золотых вилочек о тарелки, атмосфера дорого ресторана, где колечко лука стоит больше, чем твой фрак. Сила воздействия на мозг просто фантастична – смотришь на буквы, а видишь стейк. Даже если ты только что поел и твой желудок настолько полон, что тяжело сидеть и тошнит от мысли о еде, то даже в таком случае ты убеждаешься, читая это, что в нём бы нашлось, а если бы не нашлось, то растянулось бы, спресовалось и как-нибудь да поместилось всё то, что бессовестный Грабал описывает. Количество еды, закусок, хавчика, жрачки зашкаливает. Если бы книга была страниц так на пятьсот больше, то за время её чтения можно было бы неплохо растолстеть от одного только чтения.
Я думал, что голых барышень и их милых мужскому глазу частей больше, чем у де Сада быть не может. Прелестные барышни и прелестные части прелестных барышень, а также всякие приятные ощущения от прикосновения к этим частям, от невинных забав с этими частями, от созерцания, лобызания и всего такого прочего. Конечно же эти места и местечки так мило-эротично-сексуально-возбуждающе спрятаны то под кустиком причёсанных слегка кучерявящихся волос, то из-под невзначай съехавшего кусочка ткани к нам выглядывает острая грудка. Всё так ненавязчиво эротично. Обнажённые сиськи, выглядывающие между бортов открытого пиджака, и просто сиськи различных форм и размеров, небрежно раскиданные между страниц книги в течении всей книги. Эту книгу определённо писал мужчина. Настоящий мужчина, знающий толк в сиськах.
Я думал, что больше официантов и отелей, чем у Оруэлла быть не может. Может, гарантирую это. На этом по этому пункту, пожалуй, закончу.
Я думал, что меньше абзацев, чем у Сарамаго быть не может, но есть и другие авторы, которых уже нет с нами, но они были, впрочем, как и самого Сарамаго уже, увы, нет с нами, но он был, и писал такие вот книги, где нету почти абзацев и предложения настолько длинные, запутанные и, кстати, пунктуация там – вообще отдельный пункт всей этой вакханалии, заслуживающий отдельной нобелевской премии по синтаксису – настолько накрученная и безмерная, что фраза «я дочитаю до точки и тогда пойду и сделаю, дорогая, что ты у меня просишь» будет звучать для жены как такое прямое посылание на три буквы, известных нам всем, но которые печатать в приличных местах всё же не стоит, ибо печатать их неприлично, но дать намёк на это можно и всем сразу всё станет понятно, но при этом никто не оскорбиться и не возмутиться, как если бы я прямо так взял и напечатал это слово, которое так и выпирало бы из текста – хе-хе, стоит заметить, какая двусмысленность в данном случае в слове «выпирало» - и било по благопристойному пуританскому читательскому взгляду, но все мы читали Сарамаго и знаем о чём речь, и поэтому как люди образованные мы не будем говорить плохих слов и будем на вопрос «когда?» и отвечать не прямо, как хотелось бы, а будем говорить, что «тогда, когда я дочитаю Сарамаго – или в данном случае Богумила – до точки» и всем окружающим будет понятно (и самому адресату тоже, кстати), что мы таким вот художественным и вполне приличным образом взяли и послали его на (далее идут три заветные буквы слитно с приставкой, образующие наречие времени и места, кажись).
Я думал, что нелогичных поступков героя больше, чем в книгах Кафки быть не может. Я думал, что только у Кафки герой живёт себе поживает и вдруг попадает в какую-то хрень (или эта хрень попадает в него), но вместо того, чтобы начать из этой хрени выбираться, что вполне естественно всем людям, да и по законам жанра так положено, что герой трудности преодолевает, чтобы спасти свою бренную тушку и ещё потоптать эту грешную землю в положение ушами кверху, он начинает руками и ногами, а также силой молитв, закапываться в эту хрень всё глубже и глубже, чтобы уж точно не добраться до хэппи-энда, как положено в добрых книжках, а добраться до совсем такого нелогичного конца, как это принято у Кафки. Нелогичность и абсурдность некоторых действия героя бьёт рекорды.
…и ещё я много чего думал и был в этом почти уверен, пока не прочитал это творение рук чешских. Разрывом шаблонов это не назвать (после Владимира Георгиевича лоскутков не собрать), но явным расширением предполагаемых горизонтов возможного считать вполне можно. Неимоверно доставляет, годно.

Присаживайтесь, сейчас вам главный герой историй о своей жизни понарассказывает-то, хватит не на один вечерок. Книга небольшая, но лиц и случаев в ней такой туго сплетенный клубок, что схлопывание все это в один прием чревато последствиями для здорового организма.
Дите – ученик официанта, маленький во всех смыслах – невысокого роста, почти без средств. Но он намерен работать, работать и еще раз работать, пока деньгами он не выложит несколько раз пол своей комнаты, и потом даже еще больше, потому что только с помощью денег, думает он, можно стать повыше, выше всех посетителей, и хозяев отелей и вообще выше всех мира сего, самые высокие в котором – миллионеры, сдается Дите. И дело движется, за одним отелем следует другой, и вскоре Дите получает драгоценный опыт, который пронесет через всю жизнь и сделает ответом на все вопросы и замечания о своей персоне. Еще бы! Попробуйте возразить человеку, который обслуживал эфиопского императора, это почти так же невозможно, как спорить с человеком, который обслуживал английского короля. Почетная награда и клеймо, от которого не так-то просто избавиться, потому что, в общем, счастье может быть именно в этом, а отнюдь не в деньгах и громком успехе.
Это довольно странное произведение, в котором через путь главного героя прослеживается целая куча всяческой обыденной чертовщины. Это такая тропка с множеством извилин и препятствий, где нельзя предположить, что окажется за следующим поворотом. Казалось бы, отель и отель, а потом еще отель и отель, но у каждого посетителя есть своя история, и своих странностей везде хватает, а потом вовсе вот так раз и нацисты, и взлет, и падение, и труды и компания, достойная бременских музыкантов. И все это – с маленьким Дите, который хотел стать выше, но очень не сразу понял, как правильно выполнить эту задачу.
Особенно порадовало меня то, что в этом тягучем клубке историй есть определенные элементы, появляющиеся то тут, то там, всегда естественно и одновременно с этим до смешного нелепо: вроде как они в этом ворохе выстраивают почти прямую линию, а с другой стороны, яркие маячки делают эту самую линию, как бы это выразиться, глупой до скорби, потому что именно такой может быть человеческая жизнь. Ну и это все не говоря о полусюрреалистических образах, переливающихся из одной арки в другую и иногда заслуживающих отдельной премии. Как, например, гвозди, которые ребенок забивал в пол, и которые долгое время оставались вбиваемыми в голову бедолаги Дите.
Преинтересное вышло знакомство с Грабалом, обязательно его продолжу.

Занимательное у меня вышло знакомство с Богумилом Грабалом. Он со своим героем Яном Дите - в ресторанах самых разных, посреди Европы и между войнами, с чешским президентом и эфиопским императором, а я - в море плаваю, по ресторанам хожу, смотрю на официантов, и слушаю его историю. Понимаю, что в реальности этот человек вряд ли оказался бы мне интересен, а вот так, посреди морских волн, голосом Маргариты Ивановой, немного отстраненно - пошло замечательно.
Вообще, чешские писатели умеют нас радовать историями о маленьких людях. Лично у меня началось всё классически - с бравого солдата Швейка, а теперь вот еще карикатурный коротышка-официант, приспособленец и конформист, который несмотря на все свои старания не смог себя почувствовать своим ни среди официантов и метрдотелей, ни среди чешских патриотов, ни среди нацистских офицеров, ни среди владельцев ресторанов, ни среди обобранных чешских миллионеров... Удивительная у него получилась жизнь! Всю жизнь стремиться к пустоте, в общем-то, к деньгам и роскошной жизни, не замечая мировых войн, социальных катастроф и необходимости сделать собственный выбор, и так точно всегда находить красоту. Сначала барышень и цветов, потом посуды и церемоний, затем пейзажей, ущелий... каждого в общем-то проявления жизни!
Совершенно пленил меня финал истории, когда Ян не только вопреки собственным желаниям сумел стать своим для односельчан, но даже так им полюбился, что они на правонарушение пошли, чтобы его внимание и общество себе вернуть... И вся эта кавалькада - Лошадёнка, коза, кошка, которые сопровождали его повсюду, так перед глазами и стоит.
А ведь нет в мире совершенства!
Трудно Яну дотянуться до таких вожделенных миллионеров, а односельчане с их разговорами и расспросами - слишком мелки рядом с обладателем ордена эфиопского императора. Вот и не знает маленький человек, то ли продолжать тянуться ввысь, то ли спуститься вниз, то ли так и жить в одиночестве, на странном хуторе, между временем, фантазией, мечтами и реальностью. А автор только, знай, посмеивается... Сквозь стук молотка и слезы.

И когда я лежал голый и глядел в потолок, я ни с того ни с сего встал, вынул из вазы пионы, оборвал лепестки и лепестками от нескольких пионов обложил по кругу барышнин живот, было это так красиво, что я удивился, и барышня приподнялась и тоже глядела на свой живот, но лепестки падали, и я нежно толкнул ее, чтоб она по-прежнему лежала, снял с крюка зеркало и поставил его так, чтобы барышня видела, какой красивый у нее живот, обложенный лепестками пионов, и я говорил, мол, как будет прекрасно, когда бы я ни пришел, тут будут цветы, и я украшу ими ее живот, она сказала, что такого с ней еще никогда не случалось, таких почестей ее красоте еще не было, и потом она добавила, что после этих цветов она в меня влюбилась, я ответил, как будет прекрасно, когда на Рождество я нарежу сосновых веточек и разложу их у нее на животе, и она сказала, что будет еще красивее, когда я обложу ее живот омелой, но лучше всего устроить так, чтоб над канапе на потолке висело зеркало, чтобы мы могли видеть, как мы лежим, и главное, какая она красивая, когда голая и с венком на шубке, венком, который станет меняться вместе с временами года и цветами, какие бывают именно в этом месяце, как будет прекрасно, когда я обложу ее ромашками и слезками Девы Марии, и хризантемами, и астрами, и разноцветными листьями… и я встал, и обнял ее, и почувствовал себя высоким, когда же я уходил, то дал ей двести крон, но она вернула их мне, а я положил на стол и ушел, и было у меня такое чувство, будто мой рост метр восемьдесят, и пани Райской я подал сто крон в окошко, она нагнулась за ними и посмотрела на меня сквозь очки… и я вышел в ночь, и небо над темными улочками сияло звездами, но я не видел ничего, кроме всевозможных подснежников и примул, перелесок и велоцветников вокруг живота барышни блондинки, и чем дольше я вышагивал, тем больше удивлялся, откуда взялась у меня идея обложить лепестками красивый женский живот с мысиком волос посередине, будто блюдо с ветчиной — листьями салата, и так как я знал цветы, я в мыслях продолжал убирать нагую светловолосую барышню в листья и лепестки ирисов и тюльпанов, и я подумал, что надо еще поломать голову, и потому будет у меня на целый год развлечение, и что за деньги можно купить не только красивую девушку, но еще и поэзию.
Иногда он заказывал в номер минеральную воду, когда я входил, он всегда был уже в пижаме, лежал на ковре, и его огромный живот покоился подле него, точно какая-то бочка, и мне нравилось, что он этого живота не стесняется, наоборот, носит его перед собой, точно рекламу, и рассекает им мир, который идет ему навстречу. Всегда он мне говорил, садись, сынок, и улыбался, и мне казалось, что погладил меня не папа, а мама.
когда наступали четверг и пятница, в этих банях мылись коммивояжеры и люди без постоянного дома, и вот моя бабушка с десяти утра была уже наготове, и я потом тоже радовался четвергу и пятнице и остальным дням, но в другие дни из окон уборной белье не вылетало так часто, как в четверг и пятницу, и мы смотрели в окно, и мимо нашего окна каждую минуту кто-то из этих проезжих выбрасывал грязные кальсоны, и они на мгновение застывали в полете, будто показывали себя, и потом падали вниз, порой ложились на воду, тогда бабушка нагибалась и вытаскивала их багром, и мне приходилось держать ее за ноги, чтоб она не упала в ту глубину, а выброшенные рубашки вдруг раскидывали руки, будто постовой на перекрестке или Иисус Христос, и так на минутку были распяты эти рубашки в воздухе и потом стремглав летели на лопасти и ободья мельничного колеса, колесо поворачивалось, и тут всегда ждало нас приключение, но все зависело от движения колеса, как поступить, оставить рубашку на колесе, пока, поворачиваясь, оно не принесет ее на лопасти к бабушкиному окну, и достаточно протянуть руку и взять, или же доставать багром эту рубашку с вала, куда ее затянуло и все время мнет поворотом колеса, но бабушка и ее доставала и вытаскивала багром через окно в кухне и сразу же бросала в корыто, а вечером стирала грязные кальсоны, и рубашки, и носки и воду сливала прямо назад в текущую под лопастями мельничного колеса воду. Но особенно красиво бывало вечером, когда в темноте из окна клозета Карловых бань вдруг вылетали белые кальсоны, белая рубашка и светились на бездонном фоне мельничной пропасти, и тогда в нашем окне с минутку сияли белизной рубашка или кальсоны, и бабушка наловчилась подхватывать их багром прямо на лету, прежде чем упадут они на мокрые и скользкие ободья или поглотит их глубина, но иной раз вечерами или ночами, когда от воды из глубины тянуло сквозняком и вздымалась вверх водяная пыль, вода и дождь так хлестали бабушку по лицу, что ей приходилось драться с этим ветром за рубашку, но все равно бабушка радовалась каждому дню, и особенно четвергу и пятнице, когда коммивояжеры меняли рубашки и кальсоны, потому что они заработали денег и купили себе новые и носки, и рубашки, и кальсоны, а старые выбрасывали из окна в Карловых банях, и там внизу выуживала их багром бабушка, и это белье она потом стирала, чинила и складывала в буфет, разносила по стройкам и продавала каменщикам и подсобникам и так скромно, но хорошо жила, что могла и мне покупать рогалики и молоко для кофе… это был, наверно, мой самый прекрасный возраст… и сегодня мне часто видится, как бабушка в ожидании стоит ночью у открытого окна, а ожидание это зимой и осенью было нелегким делом, и я вижу, как падает выброшенная рубашка, затягиваемая сквозняком, вот перед окном она на мгновение остановилась, раскинула руки, и бабушка быстрым движением подтягивает ее к себе, потому как через минуту она обвиснет, падая, будто подстреленная белая птица, в струящиеся черные воды, чтобы потом измученной медленно возникнуть на пыточном колесе уже без человеческого тела и возноситься по мокрому кругу сырой окружности, чтобы исчезнуть в окнах четвертого этажа, где, к счастью, были мукомольни, а не люди, подобные нам, с которыми пришлось бы драться за эти рубашки и кальсоны и ждать, пока колесо опять вернется по кривой и рубашка опустится вниз и, может, даже соскользнет, упадет в текучие черные воды, и унесет тогда это белье по желобам под черными мостами куда-то далеко и с мельницы прочь… Хватит вам? На этом сегодня закончу.
Я шел, но никто нигде не появлялся, ни на дороге, ни в окнах, ни на балконе, стояла тишина, только шелестел ветер, и воздух был душистый, точно взбитый невидимый снег, его хотелось есть, как мороженое, я подумал, если взять булку или кусок хлеба, то можно заедать этот воздух, как молоко.
Так невероятное стало реальным.
она прошагала мимо, и я засмеялся и с удовольствием зашагал тоже; я представил эту упрямую и грубую девку, которая разговаривала с профессором так, как привыкла в своем Коширже, и которую профессор научил всему, что подобает даме… теперь она прошла мимо меня, как университетский студент проходит отдел библиотеки для неучей, и я точно знал, что эта девушка не будет счастливой, что ее жизнь будет печально-прекрасной, что для мужа жизнь с ней будет мучительной, но и полной…
И вот я, дорожный рабочий, каждую субботу до самого вечера сидел в пивной, и чем дольше я в ней сидел, тем больше выкладывал людям, тем чаще вспоминал о лошаденке, стоявшей перед пивной, об искрящемся одиночестве в том моем новом доме, я видел, что люди затемняют мне то, что я хотел бы узнать и познать, что люди впустую растрачивают часы и дни, как, бывало, растрачивал я, они отодвигают те вопросы, на которые однажды им придется ответить, если будет у них то счастье, что перед смертью останется на это время… в сущности, в этой пивной я всегда приходил к мысли, что суть жизни в расспрашивании самого себя о смерти, как я буду вести себя, когда придет мой час, что, в сущности, это не просто расспрашивание самого себя о смерти, но это разговор перед лицом бесконечности и вечности, что сам поиск понимания смерти есть начало мышления в прекрасном и о прекрасном, потому что наслаждение бессмысленностью своей дороги в любом случае заканчивается преждевременным с точки зрения вечности уходом, это наслаждение и переживание своей гибели, оно наполняет человека горечью, а значит, красотой.
***
Эта книга написана под ярким летним солнцем, которое раскаляло пишущую машинку так, что по нескольку раз в минуту что-то заедало, будто она заикалась. Невозможно было смотреть на отсвечивавшие белые четвертушки бумаги, и мне не удавалось прочитать то, что я написал, стало быть, опьяненный светом, я работал не глядя, как автомат, свет солнца так слепил меня, что я видел лишь очертания искрящейся машинки, жестяная крыша за несколько часов так накалялась, что исписанные страницы сворачивались от жары в трубочку. И к тому же события, которые в последний год навалились на меня так, что у меня не было даже времени зарегистрировать смерть матери, вот эти события и принуждают меня оставить книгу такой, какой она получилась с первого раза, и надеяться, что когда-нибудь у меня будет время и мужество снова и снова возиться с текстом и перерабатывать его ради истинной классичности или же под влиянием минуты и догадки, что можно и сберечь эти первые спонтанные образы, взять ножницы и выстригать те образы, которые и спустя время сохранят еще свежесть. А если меня уже не будет на свете, пусть это сделает кто-то из моих друзей. Пусть настригут маленький роман или большой рассказ. Так!
P. S. Тот летний месяц, когда я писал эту книгу, я прожил в умилении от «художественного воспоминания» Сальвадора Дали и фрейдовского «ущемленного эффекта, который находит выход в речи».

галстук такая вещь, сначала он делает костюм, а потом костюм делает человека

Мое счастье всегда было в том, что со мной случалось какое-нибудь несчастье










Другие издания