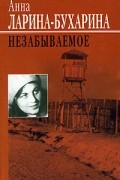Обличение советской власти.

- 270 книг
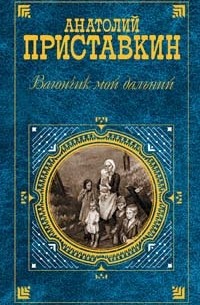
 Ваша оценка
Ваша оценкаЖанры
 Ваша оценка
Ваша оценка
Где они теперь, эти дальние вагончики наших судеб? Уплыли за горизонт, простучав, словно ударами молодых сердец, своими колесами. Развеялся дым впечатлений и воспоминаний, оставив в душе лишь следы родных, друзей, любимых. Плохое стирается из памяти. Стирается, да не все: трагические события оставляют навсегда на сердце ноющие раны и огрубевшие рубцы...
О чем книга? О беспризорной любви, которая распустилась на короткий срок ярким цветком среди окружающей ее мерзости, и так же быстро увяла. Тем более, когда кругом война и, не смотря на то, что действие в основной своей массе происходит далеко от фронта. А положение еще усугубляет тот факт, что любовь эта вспыхивает в движущемся и охраняемом вагоне, в котором везут беспризорников...
Да, тема трагичной любви среди войны присутствует у многих писателей – Астафьев и Быков, Ремарк и Окуджава, но там военные и повзрослевшие люди. А здесь первая любовь настигает детей, сирот. И оттого эта пронзительная история наполняет сердце болью, а глаза слезами. Стремительная и короткая любовь. Как пришла, так и оборвалась. Но все же, все же... У них было несколько дней и ночей настоящей любви и трогательная ее прелюдия. А где та мера, которой можно оценить эти счастливые мгновения. Может как раз они и стоят всей оставшейся жизни...
P.S. Отчего-то совсем мало отзывов на эту книгу. Поэтому горячо рекомендую к прочтению. Я ее слушал, а читала эту книгу пальцами замечательная Людмила Кунгурова

«Вагончик» – вещь перестроечная и крепко антисоветская. В связи с этим грустная и гнусная. Главный её герой – даже не влюблённый юноша Антон, коему пошёл шестнадцатый год, а марксист-идеалист Иоган Фишер. В нормальном капиталистическом обществе он был бы богатейшим латифундистом и уважаемым человеком (по крайней мере, до определённого момента). В советской же России, куда сдуру приехал строить светлое будущее, он просто не нашёл понимания среди местных унтерменшей.
Как итог: и жил грешно, и умер смешно. Вообще-то ни разу не смешно, а очень трагично:
• ехал строить светлое будущее, но так и не смог разобраться с жутковатым настоящим;
• щедро делился знаниями о сельском хозяйстве, а также накопленным опытом, но только помог разбогатеть местному рабовладельцу – директору интерната Мешкову (Язве);
• и даже его заступничество и самопожертвование никак не меняют ситуацию, потому что СССР в изображении Приставкина – суть клоака, в которой барахтайся не барахтайся, результат один.
Все советские люди изображены здесь в стандартном перестроечном ключе, то есть либо жертвы, либо мрази: что ни крепкий хозяин, то рабовладелец, что ни человек в военной форме (а в стране 1944 год), то насильник и пьяница. Насилует, правда, девочек, и это единственное, что его от фашиста отличает: фашисты здесь – пидарасы.
Откуда все эти люди берут рабов?
Мешков, например, будучи директором интерната, использует как рабов опекаемых им сирот. Все прочие – тех ж сирот, но из старшей группы, которые стали Мешкову неудобными. Это ведь – в перестроечной трактовке – при Сталине было так просто: за взятку оформить неугодную группу как малолетних преступников, погрузить в товарный вагон и отправить неведомо даже для конвоиров куда и ничуть не заботясь о том, что всех их надо периодически кормить.
Среди рабов есть двое влюблённых – Антон и Зоя. Это ходячая иллюстрация к вопросу о сталинских репрессиях. Антон – сын красного командира, расстрелянного как враг народа. Зоя – дочь инженера, пострадавшего в ходе инженерного процесса. В вагончике ребят сопровождает беспаспортная сторожиха тётя Дуня, когда-то насильственно высланная в Сибирь с родной Кубани. А потом дорога сводит их с такими же дунями, согнанными из родных деревень (да и нету больше тех деревень) в трудармию. Помогает бежать Глотыч – а он в прошлом раскулаченный крестьянин. И вообще наглотался от советской власти дерьма (так и написано). В ходе скитаний ребята чуть не лишаются свободы ещё раз. Им помогает Надия – жена репрессированного немца-винодела, отбывающего трудовую повинность (срок?) с точно такими же советскими немцами – с Повольжья, Кавказа и т.д. А ДРУГОЙ ЖИЗНИ В ЭТОЙ ИСТОРИИ НЕТ: ЛИБО ВАГОНЧИК, ЛИБО ЗАГОНЧИК С КОЛЮЧЕЙ ПОВОЛОКОЙ И НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЗОЛОТЫЕ МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ В КОНТЕКСТЕ СИТУАЦИИ КАЖУТСЯ МИРАЖАМИ.
Сами же Антон и Зоя – это такие жертвы-жертвы, что невольно тянет на философские размышления. Казалось бы, куча людей старается помочь юным влюблённым обрести свободу, а судьба постоянно шлёт им предупреждения об опасности. Но влюблённые постоянно игнорируют тревожные сигналы, путают адреса, бежать не торопятся. В общем, делают всё, чтобы получилось то, что получилось. И хоть физически остаются живы, фактически жизнь их кончена.

Вагончик мой дальний
Я уже привыкла, что Приставкин пишет о беспризорниках. Мне нравится его стиль, легкий язык, серьезные темы, которые адресованы и детям, и взрослым. И удивительно, как мало у произведения читателей на этом сайте.
Начало по декорациям пересекается с "Ночевала тучка золотая" - вагон, дети, немцы, куда-то везут, голод... На этом, собственно, пересечение и заканчивается. И начинается история любви, страха, непонимания и жажды жизни. Дети-подростки на глазах становятся взрослыми, взрослыми не физически (я не беру сейчас в счет девочек из того вагончика), а взрослеет их внутренний мир. С войной обостряются все чувства, все инстинкты, нет никому веры, но автор, не смотря на жестокий мир, посылает главным героям ангелов-хранителей в облике простых людей. Может ли быть такой сильной любовь, какой она оказалась между Антоном и Зоей? Сразу вспоминается "Альпийская баллада" Быкова, когда герои спасались бегством, а за ними с собаками неслись фашисты. Очень похожий сюжет развивается и в "Вагончике...", только бегут за подростками не немцы, а свои же.
Интересно, могло ли быть такое на самом деле в те 40-е года? Вспоминая все то, что уже мной прочитано ранее на подобную тему, думаю - да.

А вот испуг в белых глазах у Мешкова так и застыл навсегда. И, чтобы себя подкрепить, чтобы уверить, что ты в тылу герой, а не Язва, как мы его прозвали, можно над меньшими и поизгаляться… Кого без обеда или ужина оставить, кого сразу недельной пайки лишить, кого в карцер, который сам и придумал: в бочке водовозной запирать. Небось, кино-то смотрели “Волга-Волга”, как развеселый чудик-дед возит с речки воду и песенку поет… Что, выходит, без воды и не туды, и не сюды… Вот в такую бочку и сажают по приказу Мешкова, на кого он укажет. Да еще пригрозит: мол, будешь бузить, или кричать, или по деревянному боку изнутри барабанить, так в говновозку запихнут.
Случалось, запихивали.
А тут старшая группа взбунтовалась: близкий отъезд почувствовала.
Двадцать три человека, девочки тоже. А когда в говновозку засадили, да не одного зачинщика, а сразу нескольких, те и крикнули Мешкову сгоряча: “Подожди, сука-Язва, до Москвы дочешем, а там все про тебя пропишем!” Сами не понимали, как опасно для него прозвучала та угроза.
Поперву он только разозлился, кулаком грохнул по бочке: “Кто сказал?!”
Кто, кто? Дед Пихто! Снаружи-то не видать. А мы еще вокруг стоим, ржем, как ненормальные. На бочку, на него смотрим – и ржем. И тоже про себя думаем: “Подожди ты, Язва, до Москвы… Мы тебе все припомним! И работу в поле, и бегство от фронта, и все остальное!”
Он как услышал. Оглядел нас – глаза белые, как у покойника, в них приговор нам, хоть не догадались мы тогда, что он задумал.
А как наступил день возвращения, ровно через месяц после пришедшего
“вызова”, довезли нас до станции да стали сажать по вагонам, откуда-то районный прокурор взялся и начал по спискам проверять. И всех, кто бузил, в отдельный вагон посадили. Туда же агронома, он же немец, он же к тому же Рыбаков, о котором речь впереди. Он промолчал, знал, наверное, что с ним никто разговаривать не будет.
Что повелят, то и сделает.
А теть-Дунь, сторожиха наша, – ее беспаспортной держали при интернате, но без зарплаты, – и говорит, когда мы у вагона столпились… Негромко так, но мы услышали, что вот прокурор этот самый, конопатый, который на пузо плечистый, уже получил от директора гектар свеклы и гектар капусты, которые мы выращивали, а все остальное Мешков распродал и закупил вино, едет оно в ящиках в другом вагоне. Так этот конопатый прокурор какую-то бумагу на всех нас, и на нее тоже, и на Рыбакова состряпал по просьбе директора, а что в той бумаге, теть-Дунь не знает. А вот по жизни, когда выгоняли их из дома на Кубани, при отправке в Сибирь, еще в тридцатом, да родители, слава Богу, померли дорогой и не мучились, как она, так кумекает, что прокурор-то зазря не появляется… После него всегда несчастье к людям приходит.
– Хрен соси, читай газету, прокурором будешь к лету! – проорали мы хором. От счастья, что в Москву возвращаемся, ничего мы из сказанного теть-Дуней не услышали. Лишь гоготали, как сумасшедшие.
Хотя что уж такое особенное или сытное нас в Москве ожидало? Да ничего не ожидало. Зато жизнь без Мешкова ждала, уж точно, а это, как мы понимали, самое большое счастье.
Когда отъехали, все спрашивали: как скоро мы приедем? “Куда? Домой?
Будет вам дом, да еще какой!” – Это Мешков негромко, но по-особенному, поблескивая белками глаз, произнес на прощание. И снова мы не расчухали особенного тона, его дальнего замысла, такие были дурачки. А тут двери в товарнячке – на засов, ссать-срать в уголке через дырку в полу, крошечную, а пайку, когда она есть, через узкую щель под крышей бросают, щель, она же – окошко, если на плечи друг другу встать, можно небо увидеть, столбы вдоль насыпи… Вот и вся дорога домой…
Но домой ли?

Было, было, не могу назвать когда, потому что не ведаю, сколько минуло на земле световых лет… Сверкало жаркое сибирское солнце, и мы яростно молотили цепами горох, поднимая пыль. Как в той песенке, что исполняла по радио до войны народная певица Ольга Ковалева своим странно дребезжащим, но таким задушевным голосом: “Ой чу-чу-чу-чу-чу-чу, я горошек молочу, на чужой стороне…”
Цеп – кто не знает, палка такая гладкая, руками отшлифованный ствол, а на его конце, на сыромятной коже, привязана другая палка, потолще, но покороче… Вот и машешь большой палкой, а маленькой барабанишь изо всех сил по куче гороховой трухи, сложенной посреди поля. Так приказал пьяный управляющий Кириллыч, цепная собака директора.
Кличка у него Кирялыч. Как не трезв, так добр. Но не дай Бог не допьет, тогда ужас как свирепеет. Ростом не вышел, кривоног, туповат, выродок, результат пьяной случки, но кулаки у него тяжелы.
Говорят, из деревенской бедноты выдвинулся в активисты при раскулачивании, а как назначили председателем колхоза, пропил новый американский трактор “Фордзон”, маслобойку, отнятую у богатеев, что-то еще и был в наказание разжалован и прикреплен разнорабочим к интернату. Но по совместительству он надсмотрщик. А мы быстро смекнули: если раздобыть ему бутылку самогона, освободит от нормы, отпустит промышлять бычки вдоль “железки” – так у нас главная железная магистраль Владик – Москва обозначается. Бычки распотрошим, на жаровне отсыревший табачок подсушим – и вот она, сладость курения, в ночное, неподконтрольное директору время! Кто уже курит, а кто рядом нудит, мол, оставь, оставь, на что прозвучит: “Остап уехал за границу, оставил х… и рукавицу!”
Сам директор интерната Мешков – не пьет, не курит, язвенник. У него эта язва в белых глазах торчит. Бодается. А выражение морды его лица мягчает лишь тогда, когда на своей линейке, запряженной молоденькой кобылкой, проедет вдоль полей, озирая с дороги, как мы ишачим. На коромыслах ведра на поливку: норма сто ведер на сутки с ближайшего озерка, после них шея и плечи, как пораненные, ноют. Однако еще и сено грести. Тут от соломенной крошки кожа зудит, как от чесотки, и красная сыпь по телу. Уж лучше картошку с капустой полоть. Но для прополки у нас дошкольная мелюзга от пяти лет, и у них тоже норма.
Воду не носят: не поднять, – а картошку тяпками окучивают, жучков с ботвы снимают.
И хоть жарит сверху, а рядышком речка, но кажется, что до нее далеко, как до каналов Марса. Вот посчитают, как день закончится, а он заканчивается в одиннадцатом часу, ну в августе чуть раньше, и рявкнет Кирялыч, торопясь на похмелку: “Сыпь в речку, муде промой, а то за версту воняет!” И так – до одури! – счастливо окунуться в черноводь, ласковую, парную, лишь огоньки домов на берегу, а сверху – звезды.
Чего не жилось: велели до куста гектар обработать, так куст на сто метров перенесли, так красиво, что с пропитых глаз даже наш надсмотрщик не заметил. А в августе уже не лебеду, не ягоды на картофеле черные, приторно-сладкий паслен, он же бздника, и не жесткие, как веревки, стебли щавеля, а горох да капустку тайно сгрызешь, а то и брюкву или свеколку – и вот оно, сытое блаженство.
А в лесу, кто знает, дикая вишня подоспела, черемуха, шиповник.
Поедешь на деляну за дровами и, пока никто не видит, ухватишь пяток минут, больше-то нельзя, и фруктой сибирской наслаждаешься.
Так бы и была ранняя осень сорок третьего года в радость ошалелой от лета пацанве, но вдруг пришел из Москвы на интернат “вызов”. И стали в одночасье сворачиваться. Какой этот “вызов”, как выглядит, никто из нас не знал, не видел. Представляли, что бумага такая огромная с названием “ВЫ…ЗОВ”. Зовут, значит. А как “вызов” тот приходит, так надо ехать скорей в Москву. Кому надо ехать? Понятно кому, директору, а значит, и нам! Куда нас денешь?
Сам Мешков – не малая птица, до войны каким-то хозяйством в пригороде столицы руководил, с портфелем партийным кожаным ходил, но более ездил. И уже домик свой на краю Люберец достраивал, молодая жена, ребенок, а как объявили войну, все полетело кувырком. Стали призывать на фронт, тут он сразу язвенником стал, глаза от страха, что загребут на передовую, еще больше побелели. Напугался на всю свою жизнь.
Да повезло, хотя говорят, что такое везение недешево стоит: завхозом при детях устроился, – а как директора на фронт мобилизовали, Мешков и прыгнул на его место. Ему не только удалось вывезти нажитое, но и тут, в тылу, пожировать: двести детишек, значит, двести беззащитных рабов, и огромное хозяйство на десятки гектаров! Кому война, а кому хреновина одна, как говаривал мой дружок из Новороссийска Володька Акимцев.

Перрончик прощальный, вагончик мой дальний…
из песенки
Мне часто снится один сон. Вагончик наш укатил, а мы с Шабаном сидим на рельсах, не зная, где его искать. Но искать-то надо. Там, в эшелоне, остались наши дружки, а здесь кругом лес да зверье. И
Зоенька моя там, в вагончике, ждет и верит, что мы ее непременно отыщем. И вот уже мы с Шабаном возлежим поверх угля в тендере, чумазые, как черти в аду, но осчастливленные своим высоким положением, быстрой ездой, обогретые железным теплом паровоза “ФД” -
Феликс Дзержинский. Мы поплевываем сверху вниз, с превосходством пассажиров, обладающих такой
плацкартой, поглядывая на летящие встречь елки, на темные крыши домов, на стрелочников, что промелькивают у будочек с желтыми флажками, выставленными перед собой.
Так можно катить хоть на край земли. А чтобы к нам не лезла всякая дорожная шалупень, мы на остановке отпихиваемся ногами и рычим, состроив зверское лицо: “Куд-ды прешь, скот-тина, тут зеки! Под охра-аной!” Действует безотказно: зеков боятся. Но вот Шабан, вперившись в горизонт, предупреждает: “Встречный, гляди в оба!” Мы свешиваем против движения свои негритянские рыльца, чтобы, не дай
Бог, не пропустить свой эшелон. Мы знаем его наизусть. Там в хвосте прицеплен товарничок ржавого цвета с вытяжной, торчащей вверх трубой от буржуйки и решеткой на окошке. Рядом платформа с лошадьми, а потом штабной вагон, зеленого цвета, с гербом на боку и часовыми на подножке.
Но встречный – не наш. Угадываются танки и пушки под брезентом, значит, на фронт. А фронт теперь в далекой Германии. И солдаты машут из открытых дверей и орут слова на мотив немецкой песенки Розы Мунды:
По блату, по блату дала сестра сол-да-ту,
Дала сестра солдату пол-лит-ру мо-ло-ка-а…
Но однажды Шабан, пустивший по малой нужде струю вниз, на соседние рельсы, вдруг возопит, заглушая гудок паровоза, что вот он – наш, наш! Эшелон!
Мы разом выныриваем из тендера и, правда, видим свой вагончик и даже угадываем на ходу чьи-то торчащие за решеткой мордочки.
“Прыгаем!” – кричит Шабан и сам приноравливается к прыжку, свесив босые ноги. А насыпь навстречу, как угорелая, слетишь – уж точно шею свернешь. “Боюсь!” – кричу я. “Не бойсь! Это же во сне!” Во как завернул, будто во сне не так страшно прыгать. И задняя мысль: а вдруг это вовсе не во сне? “Да прыгай же, скорей! Скорей!” – кричит
Шабан и летит катышком под зеленую насыпь. Я закрываю глаза и шагаю в пустоту… Долго, очень долго меня несет по воздуху, потом с силой ударяет об землю. И крутит, и вертит, выворачивая ноги и руки.
Головы своей я при этом не чувствую. Может, впрямь, все происходит во сне? А просыпаюсь с колотящимся от страха сердцем и занозой в памяти: удалось ли догнать в этот раз свой эшелон или на следующую ночь снова придется его искать?
“Начальнику железнодорожного узла полковнику железнодорожных войск т. Сивцеву. Среди поступивших в эшелоне 255 17 на станцию Желтовка г. Кургана трех вагонов с фронтовым литером госпитализированных в санитарном поезде раненых бойцов, следующей в ремонт военной техники
(32 ед.), товарного вагона с лошадьми (7 ед.) и вагона сопровождения охраны поступил груз без обозначения станции отправления и оформленных бумаг, значащийся в общей накладной сопровождения как группа малолетних преступников в количестве двадцати трех единиц мужского и женского пола, список прилагаю. С ними же в вагоне обнаружены мужчина средних лет по фамилии Рыбаков и женщина Евдокия
Артемова, которым, по их словам, доверили приглядывать за детьми, но паспорта ни тот ни другой не имеют. Прошу вашего разрешения для дальнейшего отправления данного вагона, а также необходимых указаний, в каком именно направлении и в чей адрес он должен быть отправлен. Дежурный по грузовой станции Желтовка-2 капитан железнодорожных войск Коваленко. 4 апреля 1944г.”.
******
Лязгнули звонко буферные тарелки. Эшелон дважды дернулся и встал.
Стало тихо, поскрипывала лишь, словно продолжая движение, деревянная обшивка нашего вагона. Наверное, не только я, а все, кто был тут, даже те, кто по привычке дремал, напряглись, поднимая головы и пытаясь уловить снаружи хоть один звук.
Конечно, остановка – не окончание дороги. Не говорю: освобождения.
Мы уже забыли, что оно означает. Да от чего нам освобождаться, если вагон для нас не только тюрьма, но и дом! Затаив дыхание, ожидали: вот где-то громыхнул состав, прогудела маневровая “кукушка”, – мы наизусть знали её пронзительный голосок. Прозвучали в отдалении торопливые шаги, скорей всего женские, не в сапогах, а в мягких бурках, но к нам, к нашему вагону, они не имели отношения. Как и отдаленный, по селектору, механический голос диспетчера, отдающий кому-то указания: ду-ду-ду… ду-ду-ду.